
КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Трансформация доверия в российском/ советском обществе
В предыдущих параграфах уже отмечалось, что нельзя рассматривать доверие статично, необходим динамический подход — анализ возни кновения доверия, преобразования доверия из одной формы в другую, качественных перемен в самой социальной природе доверия. Россия представляет собой хороший пример того, как за столетие доверие I женилось полностью (по крайней мере, дважды): сначала преобразование патриархальной России в советскую Россию, когда доверие из традиционного превратилось в некоторый промежуточный тип (нечто среднее между досовременным и современным); затем преобразование социалистического общества в нынешнее, которое скорее можно назвать рыночным, чем капиталистическим, когда доверие окончательно приобрело современный характер. Менялись, причем кардинально, моральные, социальные, экономические устои; менялись характер и образ человека — от крестьянина с его наивной самобытностью до «советского труженика» и рабочего человека, и далее — от рабочего к «работнику» нашей денежной современности. Хотя тип человека российского общества постперестроечного времени, возможно, еще не сформировался окончательно, но ясно, что этот человек уже существенно отличается от прежнего, советского человека. Соответственно историческим изменениям менялись и отношения доверия. Анализ трансформации доверия и будет основной целью этой части книги.
Концепция трансформации в социальных науках. В социологии трансформационный подход разрабатывается последние сто пятьдесят лет. Ключевой работой в этой области мы считаем книгу Поланьи «Великая трансформация» («The Great Transformation»), которая была опубликована в 1944 г. В исследовании трансформации доверия в России и так или иначе придерживаюсь идей Поланьи, хотя это и не означает, что полностью согласен с его концепцией. Однако главная идея такова — чтобы понять природу преобразований в России за последнее столетие, необходимо рассматривать суть происходящего как переход от традиционного общества к современному, от нерыночного к рыночному обществу (где, как ни странно, именно социализм выступает посредником).
Как соотносится трансформационный подход с социологией развития? Надо ли их противопоставлять? С формальной точки зрения противоречия нет — трансформационный подход является частным, а не общим подходом в отличие от теории развития. Если в ана-
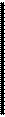 ГЛАВА 1. ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА
ГЛАВА 1. ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА
1.3. Трансформация доверия в российском/советском обществе


 лизе развития общества должна быть представлена вся цепочка последовательных преобразований, в том числе и вектор перемен, то трансформационный подход анализирует лишь один из этапов развития, т.е. частный вид преобразования. Таким образом, трансформация выступает структурным элементом развития. Но, в сущности, социология развития предполагает четко выраженную методологическую установку — это не общая «социология социальных изменений», которая вполне «всеядна» (см., например, [36]). Социология развития подразумевает определенную логику — развитие рассматривается как диалектическое и, как правило, материалистическое [37]. В этом трансформационный подход существенно отличается от социологии развития. Сравнивая Поланьи и Маркса, можно сказать, что сходятся они только в одном — в критике капиталистического общества, но методологические основания у них совершенно различные. Если у Маркса экономическая жизнь (труд) является материей общества вообще, то у Поланьи это справедливо только лишь для современного общества. Оба они одинаково ошиблись в своих прогнозах (или скорее в своих ожиданиях), «диалектический разум» опять оказался хитрее.
лизе развития общества должна быть представлена вся цепочка последовательных преобразований, в том числе и вектор перемен, то трансформационный подход анализирует лишь один из этапов развития, т.е. частный вид преобразования. Таким образом, трансформация выступает структурным элементом развития. Но, в сущности, социология развития предполагает четко выраженную методологическую установку — это не общая «социология социальных изменений», которая вполне «всеядна» (см., например, [36]). Социология развития подразумевает определенную логику — развитие рассматривается как диалектическое и, как правило, материалистическое [37]. В этом трансформационный подход существенно отличается от социологии развития. Сравнивая Поланьи и Маркса, можно сказать, что сходятся они только в одном — в критике капиталистического общества, но методологические основания у них совершенно различные. Если у Маркса экономическая жизнь (труд) является материей общества вообще, то у Поланьи это справедливо только лишь для современного общества. Оба они одинаково ошиблись в своих прогнозах (или скорее в своих ожиданиях), «диалектический разум» опять оказался хитрее.
Трансформация досовременных обществ в современные, т.е. процесс модернизации, занимает центральное место в социологии [38]. Да и сама социология как наука явилась на свет как теоретический ответ на процессы модернизации — современному обществу надо было объяснить себе, что оно собой представляет, чем отличается от старого общества, куда и зачем движется. Поэтому ситуация социологии особая — она стремится понять общество динамически, как общий тип, сравнивая примитивные, традиционные и современные его формы. В других общественных науках ситуация совершенно иная: например, в экономической науке современный тип общества (XVIII—XIX вв.) воспринимается как естественная его модель, «экономический человек» считался и считается общим типом человека, никакого сравнительного анализа не предполагалось и, что особенно опасно, не предполагается (все «исторические школы» хозяйства так или иначе терпели фиаско в борьбе с господствующим направлением экономической науки). Поэтому экономическая наука (как уже довольно пожилая) исчерпала свои социальные методологические основания и далее, как мы считаем, может развиваться только на иной теоретической базе, в интеграции с прочими социальными науками, где динамический подход уже был заложен заранее как методологическая основа.
Уже в самом начале развития социологии Конт предложил динамическую модель — «закон трех стадий». В нем традиционное общество,
основанное на теологии, религиозном восприятии мира, противопоставляется современному обществу, в основе которого лежит «позитивизм» — научный способ познания и освоения мира. «Метафизика» выступает необходимым, но все же промежуточным этапом движения от первого состояния общества ко второму. Конечно, многие социологи (например, Дюркгейм) были довольно критично настроены по отношению к «закону трех стадий», но начало было положено. Далее Спенсер, рассматривая отличия «военных» обществ от «промышленных», продолжил идею Конта о сравнительной перспективе обществ. Хотя «методологический индивидуализм» Спенсера абсолютно противопоставляется «социологическому холизму» Конта, динамический подход в социологии сохранился, приняв, правда, оттенок эволюционизма.
Маркс также, разрабатывая теорию развития и формационный (а не трансформационный) подход, продолжил сопоставление докапиталистических и капиталистических обществ. Для него, в отличие от Спенсера, преобразования носят не эволюционный, а революционный характер. В их основе — противоречие как источник развития, и главное противоречие — между развитием производительных сил общества и его социально-экономическим устройством. В условиях капиталистического общества это противоречие принимает наиболее острый характер. Становится возможным не только изменение социальной организации данного общества, но и глобальное переустройство обществ вообще — прыжок из царства необходимости в царство свободы, когда общества, основанные на эксплуатации, уступят место обществам, основанным на коллективном труде. Таким образом, круг замкнется, предыстория общества закончится, уступив место настоящей истории.
В социологии идеи Маркса относительно сравнения досовременных и современных обществ были подхвачены Фердинандом Теннисом (например, см. подзаголовок его работы «Общность и общество» в первом издании). Теннис разделяет исторический процесс «культурной жолюции» на две эры — «эру общности» и «эру общества». Эра общности характеризуется «социальной волей» в форме единодушия, обычая и религии, ее социальным субъектом является народ. Экономической основой общности является совместный труд в сфере земледелия (а его формой — домохозяйство), тогда как социальной — родство, соседство и дружба. Взаимные отношения людей строятся на основе благодарно-сти _ вознаграждения от высшего к низшему, подношения от низшего к высшему. Эра общества характеризуется «социальной волей» в виде конвенции, политики и общественного мнения, ее социальным субъ-
 ГЛАВА 1. ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА
ГЛАВА 1. ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА
1.3. Трансформация доверия в российском/советском обществе

 ектом выступает «общество как таковое». Экономическая основа общества — это торговля, промышленность и деньги. Люди в обществе живут также вместе, «но пребывают не в существенной связи, а в существенной отдаленности друг от друга» [39]. Только общность характеризуется доверием и расположением людей друг к другу, взаимопониманием и добротой, а общество заставляет человека лишь выглядеть морально добрым и благородным, честным и справедливым — ведь ценность придается лишь видимости этих качеств в виде приличий. «Ложь... становится характерным элементом общества». Итак, заметим, что для Тенниса доверие — продукт досовременного общества, который в современном обществе заменяется недоверием и враждебностью.
ектом выступает «общество как таковое». Экономическая основа общества — это торговля, промышленность и деньги. Люди в обществе живут также вместе, «но пребывают не в существенной связи, а в существенной отдаленности друг от друга» [39]. Только общность характеризуется доверием и расположением людей друг к другу, взаимопониманием и добротой, а общество заставляет человека лишь выглядеть морально добрым и благородным, честным и справедливым — ведь ценность придается лишь видимости этих качеств в виде приличий. «Ложь... становится характерным элементом общества». Итак, заметим, что для Тенниса доверие — продукт досовременного общества, который в современном обществе заменяется недоверием и враждебностью.
В классической социологии (Дюркгейма, Вебера и Зиммеля) вопрос о трансформации досовременных обществ в современные ставится в иной плоскости. В концепции французской школы социологии (Дюркгейм, Мосс, Хальбвакс и др.) досовременные и современные общества различаются внутренней структурой социальных отношений — досовременные общества построены на фундаменте механической солидарности, а современные — органической, естественной (у Тенниса в терминологии все было наоборот). Причина трансформации — развитие разделения труда (как дифференциация людей и социальных групп), а само разделение труда объясняется главным образом ростом моральной и физической плотности населения (кроме того, Дюркгейм считал важным развитие городского образа жизни и городских религий для трансформации общественного сознания в современное состояние). В отличие от Тенниса и Маркса Дюркгейм считал, что современное общество имеет свою мораль и нравственность (а следовательно, и отношения доверия). Отношения людей не регулируются только договором и расчетом, необходимы моральные основания самого договора — «договор о договоре». Причем мораль и нравственность современного общества построены по-другому — они предполагают независимость индивида, развитую личность, социальные отношения, построенные на отличии и различии людей и социальных групп. Кроме того, нравственность современных обществ «...характеризуется тем, что она имеет нечто более человеческое, следовательно, более рациональное» [40]. Главная проблема современных обществ в отношении морали заключается в том, что экономическая и социальная структура трансформируется быстрее, чем нравственность и доверие. Прежние отношения доверия исчезают, но новые еще не успевают появиться. Выход Дюркгейм видел не в возвращении к старым формам морали (традиционной морали), а в создании и совершенствовании ее новой формы.
Метод Вебера в отличие от метода Дюркгейма основывается на исследовании трансформации не социальных структур (солидарности и т.д.), а общественного сознания и общественных ценностей. В отличие от Дюркгейма, Вебер не просто заявляет о новой морали современного общества, а анализирует ее, связывая с моральными ценностями протестантской церкви. Его интересует не столько мораль как явление коллективного сознания, а моральные качества индивида — совесть, долг, честь, которые руководят человеком в действии. Придание новой ценности материальной жизни — труду, профессии, экономической деятельности — вот что отличает современное общество. Если раньше доверие было основано на вере, существовавшей в рамках этики коллективизма («братья по вере»), то теперь оно выступает рациональной деятельностью. Вебер в своей малоизвестной работе «Протестантские секты и "дух капитализма" приводит такой пример: человек, планирующий основать банк в одном из городов США, принимает баптистский обряд крещения («перекрещение»). Для чего? Известно, что баптисты тщательно проверяют жизненный путь каждого нового члена общины: «Посещение трактиров? Танцы? Театр? Карты? Неточность в выполнении денежных обязательств? Какие-либо иные проявления легкомыслия?» Поэтому сам факт принятия в члены секты этого нового банкира является источником доверия к нему. Доверие давало кредит, доверие стало полезным и выгодным (как и честность). Постепенно исчезли секты, церковь перестала играть значимую роль, но рациональность и рационализированная этика поведения, заложенная в основание капиталистической системы, остались. Доверие стало сугубо рациональной функцией современного общества.
В неоклассической социологии трансформация досовременных обществ в современные рассматривается в иной перспективе. В работе Талкотта Парсонса «Система современных обществ» акцент делается на процессе системной дифференциации. Современные общества отличаются от досовременных тем, что в них функциональные подсистемы (экономика, политика, культура, собственно социальная подсистема) структурно дифференцированы — отделены друг от друга, отно-с ительно самостоятельны и самодостаточны. Экономика одной из последних выделяется из общества, и после этого окончательно формируется система современных обществ. Карл Поланьи идет в этом плане дальше и разрабатывает концепцию «включенности» — если в досовременных обществах экономика была включена в общество как его подсистема (и определялась социальными, моральными и религиозными факторами), то в современных обществах экономика не просто вы-
 ГЛАВА 1. ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА
ГЛАВА 1. ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА
1.3. Трансформация доверия в российском/советском обществе

 деляется из общества (как считал Парсонс), но и постепенно подчиняет себе все общество — теперь оно «включено» в экономическую систему. Так происходит процесс трансформации с точки зрения Поланьи. Но существует и вторая его ступень — общество в XX в. начинает защищаться от господства экономики и рынка. Политическое (государственное) регулирование рыночной экономики — вот один пример сопротивления общества экономике. Развитие профсоюзного и рабочего движения, система коллективных договоров — другой пример сопротивления труда рыночной экономике. Наконец, капитал также стремится вырваться из рыночной экономики: введение институтов центрального банка, отказ от политики золотостандартного регулирования национальных валют — все это выводит капитал из сферы рыночного регулирования. При любой возможности и бизнес стремится освободиться от рыночных правил игры, превращаясь в монополистическую форму организации.
деляется из общества (как считал Парсонс), но и постепенно подчиняет себе все общество — теперь оно «включено» в экономическую систему. Так происходит процесс трансформации с точки зрения Поланьи. Но существует и вторая его ступень — общество в XX в. начинает защищаться от господства экономики и рынка. Политическое (государственное) регулирование рыночной экономики — вот один пример сопротивления общества экономике. Развитие профсоюзного и рабочего движения, система коллективных договоров — другой пример сопротивления труда рыночной экономике. Наконец, капитал также стремится вырваться из рыночной экономики: введение институтов центрального банка, отказ от политики золотостандартного регулирования национальных валют — все это выводит капитал из сферы рыночного регулирования. При любой возможности и бизнес стремится освободиться от рыночных правил игры, превращаясь в монополистическую форму организации.
Но все же неоклассическая социология не ставит вопроса о смене общества модерна новым состоянием общества/обществ. Парсонс первым четко заявил в 1970-х годах, что мы живем в эпоху современности и, что более важно, нет никаких оснований для того, чтобы принципы социальной и экономической организации современности изменились в ближайшем будущем. Постклассическая социология (Ли-отар, Бодрийар и др.), наоборот, заявляет, что основания современности уже разрушены и общество вступило в совершенно новый этап своего существования. Таким образом, теперь современность сравнивается не с досовременными обществами, а с постсовременными. Постмодернистская теория предполагает не просто новый этап (состояние) в развитии общества, но прежде всего функциональное разъединение современного и постсовременного — это касается и знания, и рациональности, и состояния культуры и общения, и экономики. Историчность утрачена, все, что следует, даже не может быть включено в понятие истории, какой мы ее знаем.
Другие представители постклассической социологии (Гидденс, Ха-бермас, Ритцер и др.) не столь категоричны в анализе современности. Они также отмечают совершенно новые черты в организации современности (например, Валлерстайн определяет социологию не как науку об обществах, а как науку о мировом обществе — тенденции глобализации не могут не изменить основ знания общественной организации), но для них нет абсолютно нового. Скорее они говорят не о постмодерне, а о «позднем модерне» (Хабермас, Гидденс)1. Главная характе-
1 Более подробно об этом см. в [41]. 62
ристика модерна — это господство экономического в обществе, и, несмотря на новые формы, постмодерн вряд ли преодолевает это господ-с I во, скорее оно приобретает все более глобальный и всеохватывающий характер.
Трансформационный подход в социальной теории, вопреки кажущимися фундаментальными различиям, представляет собой некое методологическое единство. По крайней мере, каждое направление в социальной теории разрабатывает эту тему.
Теперь нам предстоит разобраться с трансформацией российского/ советского общества, уделяя особое внимание трансформации доверия.
Преобразования доверия в российском/советском обществе. В западной литературе широко распространено мнение, что Советский Союз, будучи «империей зла», представлял собой чистый тип общества с низким уровнем доверия. Данное объяснение слишком примитивное. С методологической точки зрения оно неправильно потому, что советское общество за семьдесят лет своего существования никогда не было одинаковым, оно постоянно изменялось — так же менялось и доверие в обществе. Россия за свою долгую и трудную историю XX в. дважды менялась кардинальным образом — в революционные годы (Февральская и Октябрьская революции 1917 г.) и в 1980-1990-е годы. Хотя масштаб и значение этих перемен, безусловно, несравнимы, тем не менее вектор перемен в обоих случаях очевиден — Россия должна была модернизироваться, из традиционного общества построить современное. Соответственно трансформировалось и доверие — от традиционного доверия — к доверию смешанного типа и далее — к рацио-иальному и современному доверию. Рассмотрим более подробно эти трансформации.
Российская империя в начале XX столетия считалась одной из венских держав — главным образом из-за своей огромной территории и населения: 22 млн км2 и 170 млн человек (для сравнения — сейчас эти цифры меньше: 17 млн км2 и 143 млн человек). С точки зрения экономической Россия была пятой по объемам промышленного производства после США, Великобритании, Германии и Франции. Особых успехов достигла легкая промышленность (производство тканей), развивалось также производство стали, чугуна, угля. Россия была второй по уровню добычи нефти (тогда — после США, сейчас — после арабских стран). После реформы 1860 г. и благодаря экономической политике 1880-х, по России прокатилась первая «волна индустриализации», промышленное производство росло передовыми темпами — более 8% в год, что было выше, чем в западных странах. Общие темпы роста ва-
 ГЛАВА 1. ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА
ГЛАВА 1. ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА
1.3. Трансформация доверия в российском/советском обществе
 лового внутреннего продукта за период 1908-1913 гг. ежегодно достигали 7-8%. В своей теории циклов конъюнктуры Н. Д. Кондратьев отмечал, что фаза подъема более вероятно совпадает с социальными беспорядками. Так и происходило в России начала XX в., когда экономический рост в конце концов выразился в революции 1905 г. Затем началась Первая мировая война и свершилась революция 1917 г. Экономические успехи России конца XIX в. и начала XX в. дали возможность российским марксистам утверждать, что Россия уже вступила на путь капиталистического развития (см., например, работу В. И. Ленина «Развитие капитализма в России»).
лового внутреннего продукта за период 1908-1913 гг. ежегодно достигали 7-8%. В своей теории циклов конъюнктуры Н. Д. Кондратьев отмечал, что фаза подъема более вероятно совпадает с социальными беспорядками. Так и происходило в России начала XX в., когда экономический рост в конце концов выразился в революции 1905 г. Затем началась Первая мировая война и свершилась революция 1917 г. Экономические успехи России конца XIX в. и начала XX в. дали возможность российским марксистам утверждать, что Россия уже вступила на путь капиталистического развития (см., например, работу В. И. Ленина «Развитие капитализма в России»).
Тем не менее за индустриальным фасадом в то время лежала гигантская, почти полностью крестьянская страна с господствующим сельским образом жизни и крестьянским сознанием, традиционными ценностями и культурой, монархическим политическим режимом. Более 2/3 рабочей силы было занято в сельском хозяйстве, производившем не менее половины национального дохода. Производительность в сельском хозяйстве была чрезвычайно низкой, кое-где использовались доисторические орудия труда — деревянная соха, а не металлический плут. Если общие экономические показатели выглядели не так уж плохо, то производство валового продукта на душу населения составляло не более одной трети от соответствующих показателей США или Великобритании. Социальная структура соответствовала традиционному обществу — высшие классы составляли не более 10% населения (2-3% — высший, 7-8% — средний) и 90% — низшие классы (из них 20% — рабочие и 70% — крестьяне). Как и положено, высшие 10% населения распоряжались подавляющим большинством национального богатства, что не могло не вызвать социального недовольства.
В области культурного развития Россия также вряд ли была в первых рядах. Согласно переписи 1897 г., 75% общего населения было неграмотным. Среди городского населения неграмотных было 55%, грамотными же считались те, кто умел читать (о способностях к письму речи вообще не шло). В сельской местности родители не поощряли детей посещать школу больше 2—3 лет обучения: считалось, что теряется отцовский контроль и дети не могут воспитываться в рамках традиционной морали и ценностей. Для сравнения: в это же время в Японии население было практически полностью грамотным.
Результаты урбанизации как значимой функции процесса модернизации были ощутимы, но имели двойственный характер. С 1858 по 1897 г. городское население увеличилось с 8,2 млн до 16,8 млн человек и к 1913 г. достигло 26,3 млн человек. Другими словами, за указан-
п ый период доля городского населения возросла с 10 до 16% [42], что не очень-то много в сравнении с 78% городского населения в Великобритании и 56% — в Германии того времени. Источником роста городского населения, конечно, была миграция. За период с 1858 по 1897 г. доля крестьян, переселившихся в города, возросла с 21 до 43%. В крупнейших городах — Москве и Санкт-Петербурге — доля вновь прибывших мигрантов из сельской местности была значительно выше: на 80% рабочее население городов пополнялось за счет бывших крестьян. Так иозник интересный феномен, который Б. Миронов назвал «окрестьяниванием» городского населения [43]. Крестьянское сознание, внедренное в городскую среду, стало вдруг доминирующим. Таким образом, несмотря на успехи урбанизации, традиционализм доминировал как в деревне, так и в городе. (Еще раз этот процесс повторился в конце 20-х — начале 30-х годов XX в.)
Традиционное, крестьянское сознание культивировало и соответствующий тип доверия. Традиционализм означал, что люди видели свое будущее как точное повторение прошлого, образ будущего, соединенного с прошлым через настоящее, основывался на идее того, что все находится в руках сверхъестественных сил, все зависит от Бога, но не от человека. Следовательно, пассивное восприятие мира в отличие от активности современного человека было основной моделью поведения в социальной и экономической жизни. В традиционном сознании существует вера (или доверие) не в себя самого и собственные силы, не в способность человека изменить мир, а в высшие силы, которые, единственно, в состоянии преобразовать мир. Если действие человека совпадает с нормами и правилами, установленными этим обычным порядком и освященными знамением свыше, то судьба благоприятна и будущее предопределено. Нет никакой необходимости рассчитывать риск или обдумывать условия неопределенности, а также планировать свои действия — никакого рационального выбора нет, поскольку все находится в руках божественного Провидения, все предопределено заранее, и судьба зависит лишь от баланса добрых и злых поступков в жизни человека. Что считать плохим, а что хорошим, объяснено в православной христианской морали, порядки и обычаи институционализированы в повседневной практике и освящены церковью. Поэтому счастьем («хорошей жизнью») в крестьянском обществе считалось следующее: прожить жизнь в соответствии с порядками и правилами, установленными дедами и прадедами; не забывать Бога и церковь; не нести много тяжких грехов; иметь большую семью и достаточно детей; жить в согласии с соседями и миром (общиной); заслужить уважение
ГЛАВА 1. ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА
1.3. Трансформация доверия в российском/советском обществе
 других; по возможности не покидать родных мест, умереть в своей семье и быть похороненными в соответствии с христианской традицией.
других; по возможности не покидать родных мест, умереть в своей семье и быть похороненными в соответствии с христианской традицией.
Традиционное доверие— это доверие прошлому; доверие известному и недоверие новому, неизведанному; доверие догмам, а не рациональному знанию; доверие обществу, общине, а не индивиду (как правило, чужому и чуждому); это вера в Бога и доверие церкви.
Понятие власти и доверия в традиционном обществе также отличается от соответствующих понятий в современном обществе. Сельская община, «мир», состояла не из индивидов, а из домохозяйств, каждое из которых было представлено расширенной (а не нуклеарной) семьей, которая управлялась, как правило, старейшиной (в редком случае — женщиной, только если хозяин уходил из жизни раньше положенного). Этот человек отвечал за всех в семье, формально все домочадцы подчинялись и даже принадлежали ему, именно он представлял интересы семьи во внешнем мире. Власть его была абсолютной и беспрекословной, легитимизировалась традицией и религиозными ценностями, она воспроизводилась благодаря жесткому контролю и регламентации всех рутинных практик. Наказания, в том числе и физические, были повседневной задачей такой власти. Внешнее принуждение и контроль играли главную роль в воспитании и социализации, саморегуляция и самоконтроль как элемент цивилизационного процесса практически не культивировались. Члены семьи доверяли друг другу и старшему, фигура которого персонализировала власть. Личность вообще, абстрактный индивид как представитель общества не значили ничего, но определенный, конкретный человек олицетворял власть, и именно ему подчинялись как носителю власти.
Таким образом, для досовременного общества доверие относится не к институту власти, а к конкретной фигуре, которая персонифицирует институт и олицетворяет власть. Крестьянин доверял не общине вообще как рационально понимаемому институту власти, а конкретным людям — старейшинам, которые и представляли для него власть общины. В этом смысле община являлась противоположностью бюрократии как формы социальной организации. Антропоморфизация власти (как и религии) была просто необходима, поэтому и доверие носило антропоморфизированный характер. Люди доверяли царю как фигуре конкретной власти, потеря доверия данному индивиду означала и потерю его власти.
Но власть общины над конкретным индивидом серьезным образом отличалась от власти семьи над ее членом. Если в семье индивид
был объектом абсолютной власти и не имел особого права, то в общине каждое домохозяйство формально имело равные права с другими, хотя в реальности, конечно, «крепкие» (богатые) хозяйства играли большую роль в делах общины. Примитивная демократия общины строилась на принципах равенства и взаимности (реципрокности). Равенство выражалось в равнообеспечивающем распределении общинной земли и поддерживалось постоянным ее перераспределением (то, что это не миф, видно из конкретных цифр перераспределенной земли после реформы 1860-х годов). Взаимность реализовывалась в постоянной взаимопомощи (например, коллективная помощь при строительстве дома или помощь погорельцам). Тем не менее демократические принципы организации общины ничего не меняли в характере власти — она оставалась по отношению к индивиду обособленной и безусловной, освящалась традицией и церковью, была персонифицирована в конкретных фигурах.
Свобода как ценность современного общества мало значила в обществе традиционном (в отличие от других понятий, например, равенства и братства). Свобода рассматривалась как нечто противопоставляемое порядку и обычаю, состояние свободы воспринималось как крайний, маргинальный случай нарушения порядка. Свобода считалась «добычей» и свойством «храброго разбойника», которому нечего терять и который ни с кем не связан. Свобода в досовременном обществе — это только «свобода от», т.е. независимость от других, которая в свою очередь воспринимается как негативная ценность: если ты ни от кого не зависишь и никто не зависит от тебя, то кому же ты нужен? Впоследствии революция в крестьянском сознании воспринималась как такое состояние абсолютной, но временной свободы: когда-нибудь порядок будет восстановлен, а виновные наказаны. Ценность порядка в традиционном сознании выше, чем ценность свободы и независимости, поэтому доверие порядку вообще выше, чем доверие ценностям свободы. Вот почему потом большинство населения с преобладающим крестьянским сознанием легко пожертвовало ценностями за-ноеванной свободы в пользу ценностей порядка. Люди больше верили тому, кто мог восстановить и сохранить порядок, какой бы высокой ни была его цена. Так доверие порядку переросло в доверие сильной авторитарной власти.
Моральные ценности богатства и трудовая этика вряд ли занимали много места в традиционном сознании крестьянства. В православной традиции богатство в денежном виде считалось греховным, поскольку оно заслоняло душу человека от Бога. Крестьяне признавали, что бо-
ГЛАВА 1. ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА
1.3. Трансформация доверия в российском/советском обществе
 гатство дает власть, но заставляет человека находиться в постоянном состоянии беспокойства, страха потери накопленного. Все в руках Господа, поэтому богатство — это не личное достижение человека, а его судьба, с которой нужно смириться, но нельзя добиваться богатства за счет других и не по справедливости.
гатство дает власть, но заставляет человека находиться в постоянном состоянии беспокойства, страха потери накопленного. Все в руках Господа, поэтому богатство — это не личное достижение человека, а его судьба, с которой нужно смириться, но нельзя добиваться богатства за счет других и не по справедливости.
Труд в крестьянском сознании выступал в качестве необходимого условия, но только не как средство изменения жизни. Каждый обязан трудиться, причем только работа тела считалась трудом, а умственный труд — развлечением. Трудом человек зарабатывает пропитание, а все, что сверх необходимого, — от зависти и жадности. Работать нужно тогда, когда в этом есть необходимость, но перерабатывать, работать сверх меры — такой же грех, как и не трудиться вовсе. Поэтому работали столько, сколько необходимо было для обеспечения традиционных потребностей. Вот почему рабочее время за год у российских крестьян было существенно меньше, чем у их западных соседей.
В 1913 г. в России было 140 выходных и праздничных дней по сравнению с 68 в США. Российские крепостные в начале XIX в. работали в 2,6 раза меньше, чем рабы в Америке — 1350 часов в год в России и 3065—3965 часов в Америке [44].
Такая трудовая и экономическая этика вряд ли соответствовала утверждениям, что в России существовало капиталистическое хозяйство. Труд как повседневная тягость и работа (от слова «раб») как принуждение к труду не могли быть источником капиталистического предприятия, и далее, в советское время, попытка преодолеть это отношение к труду выразилась в правовом принципе всеобщности и обязательности труда (тунеядство преследовалось по закону) при всеобщем стремлении к отлыниванию от труда как повинности. Но это не исключало, а предполагало трудовые порывы и трудовой энтузиазм первых советских пятилеток. Однако энтузиазм был временным, а качественный труд должен был стать постоянным, монотонным занятием. Ритм и труд соединяются не только в сознании примитивного человека, как доказывал Карл Бюхер, но и в сознании человека индустриального общества, жизнь и ценности подчиняются определенному темпоральному порядку; «расписание» и «распорядок», дисциплина времени — все это крайне необходимо для капиталистического общества (фабричный гудок — вот материальный символ этой дисциплины сознания).
Что касается восприятия прав собственности и отношения к собственности вообще, то в традиционном сознании права собственности освящаются и выступают как естественные условия. Например, восприятие прав собственности на землю таково: вся земля принадлежит
Ьогу и все имеют одинаковое право ее использовать. Те, кто обрабатывает землю, обретают моральное право обладать ею, поэтому естественным образом земля принадлежит крестьянам. Вот почему земля рассматривалась не как объект юридических прав, а как объект труда — именно процесс труда устанавливал моральное право собственности. Крестьяне верили, что вся земля (в том числе и помещичья) принадлежит тем, кто ее обрабатывает, — всему крестьянскому «миру». Для обеспечения равенства в распределении земли крестьянская община разрабатывала весьма точные и эффективные механизмы измерения качества и количества земли, приходящейся на каждое домохозяйство. Требование равенства было безусловным и воспроизводилось посредством постоянного перераспределения земли. Позже, в советское время, это требование равенства как уравнения всех в правах собственности стало законным с формальной точки зрения. Так что очень многие традиции крестьянского общежития нашли в советскую эпоху законодательную базу.
Частная собственность на землю вряд ли вообще признавалась крестьянами как индивидуальная форма собственности. По крайней мере, она рассматривалась как несправедливая и нечестная. Та же логика применялась впоследствии и в отношении собственности на промышленные предприятия — рабочие (бывшие крестьяне) простодушно верили, что заводы и фабрики принадлежат именно тем, кто на них трудится, а любой управленческий труд вообще не входит в понятие труда как такового. Все юридически закрепленные в бумагах, в которых никто не мог разобраться, права собственности считались уловками и хитрыми трюками, чтобы обмануть трудящихся. Идея «рабочих Советов» — спонтанных ассоциаций рабочих на промышленных предприятиях — в основном базировалась на традиционном сознании и доверии, и лишь потом «Советы» стали орудием в политической борьбе. Вся революционная пропаганда так или иначе основывалась на требовании равенства и справедливости так, как это понималось крестьянским сознанием.
Крестьяне считали (или, лучше сказать, чувствовали) себя центром общества, все другие классы, по их понятиям, жили за их счет и благодаря им. Город в их сознании отождествлялся с хитрыми и умными людьми, которые специально собрались, чтобы обманывать простых тружеников. Эта идея гегемонии крестьянства в советское время была преобразована в идею гегемонии рабочего класса: лишь крестьяне считались дружественным классом, а все остальные были объявлены враждебными классами. Так в советском обществе воспроизводи-
ГЛАВА 1. ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА
1.3. Трансформация доверия в российском/советском обществе
 лась концепция «мы-группы», которая морально оправдывала репрессии государства.
лась концепция «мы-группы», которая морально оправдывала репрессии государства.
Экономическое сознание традиционного общества не признавало современных экономических институтов. Большинство крестьянского населения не мыслило в денежных терминах, в частности, в категориях счета вообще. Только после столыпинских реформ начала XX в. в обиход вошли понятия кредита или заема. Но даже и в это время никак не приживалась идея процента — крестьяне понимали, что значит давать и одалживать, просить о помощи и помогать, но все это считалось естественным, бескорыстным. Процент противоречил традиционной морали, считалось, что банки не помогают крестьянину, а грабят его. Понятие «честной цены» основывалось на понятии издержек труда, прибыль же воспринималась как обман. Рыночная практика была повседневной в крестьянской жизни, поскольку хозяйство никогда не было натуральным, но она не формировала рыночное сознание, напротив, рынок существовал в рамках традиционных ценностей и правил.
Нельзя считать, что все крестьянское сознание было единым, а крестьянские ценности — преобладающими. В крестьянском сообществе были и староверы, и не знавшие крепостничества крестьяне северных губерний, и потомственные ремесленники, и торговцы. Но и эти слои населения так или иначе культивировали традиционное сознание: например, староверы отличались от обычных крестьян трудовой этикой, но были еще более консервативными приверженцами старых традиций и правил. Доверие для всех слоев воспроизводилось как доверие прошлому, а не будущему; как доверие высшим силам, а не человеку; как доверие «обществу-общине», а не гражданскому обществу; как доверие конкретному лицу, а не социальному институту.
Тем не менее в начале XX в. традиционное общество и крестьянское сознание вступили в процесс постепенной трансформации. Крестьяне были зажаты в тиски перенаселения, а рост «физической плотности населения» (в терминах Дюркгейма) не мог не привести к кардинальным преобразованиям. Крестьянские хозяйства становились все более мелкими, никуда нельзя было деться от процесса дробления, в то же время эффективность сельскохозяйственного труда оставалась низкой. Все это вело к росту нищеты и общему недовольству крестьян. Поскольку крестьяне видели избыток помещичьих земель, в крестьянском сознании формировалось представление о простейшем пути решения этой проблемы: отобрать землю у помещиков и разделить между всеми крестьянами по справедливости. Это был миф, некий чудесный продукт крестьянского мышления — в реальности общинная зем-
ля по площади в три раза превосходила общую площадь помещичьих )с мель. Когда в послереволюционный период земля была действительно распределена среди крестьян, то оказалось, что процесса дро-бления хозяйств, а следовательно, и бедности, избежать не удалось. Но )тот миф был более действенным, чем любая правда, — слишком заманчивым было представление о возможности решить проблему «волшебным образом», сразу, без промедления и окончательно. Постепенно среди крестьян зрело недовольство, которое разделялось и рабочими — также бывшими крестьянами, которые по указу 1861 г., даже если и работали в городах, считались членами все той же сельской общины, где и платили налоги. Рабочие часто посещали свои родные места во время праздников и отпусков, что создавало единство рабочих и крестьян в ощущении общих проблем и их решения.
В 1906 г. Столыпин пытался изменить ход событий, его реформы были направлены на то, чтобы предоставить крестьянам юридические права и гарантии для отделения от общины. Кроме того, огромные пространства Сибири планировалось предоставить тем, кто хотел получить землю, выдавались даже небольшие подъемные для переезда. Так, по мнению Столыпина, развивались бы индивидуальные хозяйства фермерского типа, на американский манер. И действительно, до 1914 г. около 3 млн крестьян покинули свои родные места, чтобы искать лучшей доли в Сибири. Почти четвертая часть общего числа крестьян отделилась от общин, чтобы получить свою собственную землю и самостоятельно вести свое хозяйство. Столыпин планировал, что реформы займут не менее двадцати лет, но его трагическая смерть в 1911 г., а затем Первая мировая война остановили процесс модернизации: из трех миллионов переселенцев почти половина вернулась обратно, от переселения осталось лишь грустное воспоминание, выраженное в понятии «столыпинский вагон». Но дело было не столько в объективных препятствиях, таких, например, как отсутствие реальной финансовой помощи переселенцам или недостаточный кредит. Более важным фактором было состояние общественного сознания, которое, несмотря на усилия «сверху», оставалось традиционным. Большинство крестьян презрительно называли выделившихся «единоличниками», к переселенцам относились не лучшим образом.
Первая мировая война существенно изменила общую ситуацию. Во мремя войны '/4 часть всего мужского населения была мобилизована в армию. Не хватало рабочих рук — на 20% сократилось производство зерна, именно тогда (а не в эпоху Гражданской войны) в городах стали вводиться продовольственные карточки. В 1916 г. царское правитель-
ГЛАВА 1. ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА
1.3. Трансформация доверия в российском/советском обществе
 ство (а не большевики, как обычно считается) ввело обязательные реквизиции — «продразверстку», нормы сдачи зерна каждым хозяйством государству на нужды армии. Из-за инфляции цены на продовольствие выросли в 4-5 раз, а в 1915 г. продовольственный кризис дополнился топливным. Война в целом шла для России неудачно — были потеряны Польша, Литва и западная часть Украины. Более двух миллионов человек погибло, еще больше было ранено. Причем цели войны явно противоречили интересам большинства, все слои общества были недовольны тем, для чего и как ведется война. Общее недоверие, как и положено в традиционном обществе, выразилось в недоверии конкретной фигуре царя Николая II, репутация которого сильно пострадала еще в связи с событиями 1905 г. Недоверие Николаю II было автоматически перенесено на недоверие всей власти и ее институтам.
ство (а не большевики, как обычно считается) ввело обязательные реквизиции — «продразверстку», нормы сдачи зерна каждым хозяйством государству на нужды армии. Из-за инфляции цены на продовольствие выросли в 4-5 раз, а в 1915 г. продовольственный кризис дополнился топливным. Война в целом шла для России неудачно — были потеряны Польша, Литва и западная часть Украины. Более двух миллионов человек погибло, еще больше было ранено. Причем цели войны явно противоречили интересам большинства, все слои общества были недовольны тем, для чего и как ведется война. Общее недоверие, как и положено в традиционном обществе, выразилось в недоверии конкретной фигуре царя Николая II, репутация которого сильно пострадала еще в связи с событиями 1905 г. Недоверие Николаю II было автоматически перенесено на недоверие всей власти и ее институтам.
Война научила рабочих и крестьян особым методам выражения своего недоверия — на руках у населения находилось достаточно оружия и не было нерешительности пустить его в ход. Поэтому в ходе буржуазной революции 1917 г. легко было свергнуть прежнюю власть, но не так легко было ее удержать. Февральская революция сразу превратила Россию в одну из самых демократических стран в мире. Царизм был низвергнут, к власти пришло непонятное для крестьян Временное правительство. Это означало, что прежняя власть закончилась — следовательно, закончилась власть вообще. Старые моральные нормы были разрушены, а новые еще не появились. Таким образом, возникло состояние, которое Дюркгейм охарактеризовал как аномию власти. Резко увеличилось число преступлений (хотя сама Февральская революция прошла относительно мирно), вскоре ценность человеческой жизни приблизилась к нулю. «Ваше слово, товарищ маузер» — сила стала главным аргументом в споре. Традиционная мораль и доверие заменялись силой или угрозой ее использования и недоверием.
Временное правительство было слишком безликим, чтобы вдохновить народные массы. Никакого доверия к нему не возникло, кроме того, продолжалась бессмысленная военная кампания, не удалось преодолеть последствия экономического кризиса. Все это привело страну на грань полной катастрофы, и для большевиков в октябре 1917 г. не составило большого труда организовать еще один государственный переворот. После Октябрьской революции власть была передана Советам рабочих и крестьянских депутатов, был восстановлен мир, земля была отдана крестьянам, а частная собственность на землю объявлена вне закона, нациям предоставлено право на самоопределение. Все это были больше лозунги, чем конкретные меры, но тем не менее как
реклама революции они оказались очень эффективными по силе воздействия на сознание масс. Армия поддерживала политику мира, поскольку большинство солдат (бывших крестьян) мечтало вернуться домой, что они немедленно и сделали — огромная масса бывших военных дезертировала, сметая все на своем пути и попутно занимаясь рек-иизициями или просто грабежами. В деревне власть перешла не просто к общине, но к «комбедам» — советам беднейших слоев, которые сразу же стали перераспределять землю в свою пользу, так что даже большевикам пришлось выступить против них. Рабочие Советы захватили власть на промышленных предприятиях, но что делать дальше, как управлять производством, никто не знал. Производительность упала до минимального уровня, зато растаскивание средств производства приобрело катастрофический характер, так что вскоре большевики приняли меры по регулированию производства — на предприятия были посланы военные комиссары.
Несмотря на популярную политику нового правительства, большевикам, как и положено, не удалось преодолеть экономический кризис и разруху, чтобы как-то справиться с хаосом, была введена политика «военного коммунизма» — рынок и деньги были запрещены, обязательные реквизиции («продразверстка») зерна на нужды городов стали обычной практикой. Власть теперь показала, что она действительно представляет собой силу. Но в реальности процветал черный рынок, мелкие спекулянты-«мешочники» быстро сумели организовать бартерную торговлю, так что рынок просто изменил свою форму. Но в 1918 г., как и следовало ожидать, началась Гражданская война — война всех против всех в условиях полной неопределенности общественного сознания (все гражданские войны в этом плане одинаковы, сравните гражданскую войну в США). Те, кто придерживался старых порядков, составили один фронт; те, кто выступал за новую власть, — другой, а между ними стояла огромная нейтральная масса населения, в основном крестьянского. «Бей справа красных, а слева — белых» — вот лозунг, отражавший специфику того времени. Но вскоре стало ясно, что Белая армия все же восстанавливает старые порядки, от которых ничего хорошего ожидать не приходилось. Большинство крестьян больше стали доверять красным, поскольку политика большевиков хотя бы давала надежду на то, что земля будет принадлежать крестьянству. Крестьяне стали больше доверять лозунгу о союзе рабочих и крестьян, считая, что их интересы в целом близки. Моральные ценности христианства в годы войны были так или иначе заменены моралью выживания. Белые и красные были одинаковы в практике террора, но чаша весов
ГЛАВА 1. ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА
1.3. Трансформация доверия в российском/советском обществе

 доверия крестьянства склонилась в пользу красных, что во многом и решило исход Гражданской войны.
доверия крестьянства склонилась в пользу красных, что во многом и решило исход Гражданской войны.
Мировая война, революция 1917 г., Гражданская война — все эти преобразования катастрофически изменили характер традиционного крестьянского общества. С 1914 по 1921 г. около 20 млн человек погибли, более 2 млн человек вынуждены были эмигрировать, 7 млн детей потеряли своих родителей и дома. Потрясения затронули в большей степени городское население, многие жители городов вынуждены были бежать в более хлебные сельские районы. Население Петрограда, например, сократилось вдвое. Число промышленных рабочих сократилось в 5-6 раз и в 1921 г. не превышало 1 млн человек [45]. Процесс окрестьянивания населения развернулся в полную силу, хотя основы традиционного сознания пошатнулись, но они не были подорваны окончательно. Впервые масса крестьянского населения начала ориентироваться на нечто новое — на новый строй и новую власть. Тем не менее базисные ценности традиционализма сохранились нетронутыми, с новой силой воспроизводилось и традиционное доверие.
Принцип доверия конкретной фигуре харизматического лидера еще в большей степени проявился в революционные годы, затем — в эпоху 1930-х. Сначала фигура Ленина как выразителя всеобщих интересов и всеобщего заступника занимала общественное сознание, затем это место было занято Сталиным, культ личности которого стал логическим завершением трансформации традиционного сознания. Чтобы быть разрушенным, традиционное сознание сначала должно было достичь кульминационной точки в своем развитии. Люди в общем доверяли не столько идеям, сколько тому, кто преподносил эти идеи и каким образом, т.е. доверяли конкретной личности, вера которой, подобно вере в тотем в примитивных обществах, символизировала единство и солидарность масс. Крестьянское сознание, попавшее в водоворот политических событий и ставшее аномичным, с еще большей силой выплеснуло требование дать массе вождя, за которым можно было бы следовать и которому безусловно можно было бы доверять. Необходимо отметить, что подобный процесс трансформации традиционного сознания происходил не только в России, но и в Италии, затем — в Германии и других странах, переходивших на новый, индустриальный, современный образ жизни. Этому благоприятствовали уже наметившиеся в начале XX в. процессы преобразования ценностей — например, утрата значения религиозных ценностей, возрастание доли гражданского образования, развитие массовых коммуникаций и т.д.
Тем не менее в 1920-е годы в России самые старые формы традиционализма, такие, например, как общинное хозяйство, еще более уси-1ились. Можно утверждать, что значение общины в крестьянском сознании того времени даже возросло, поскольку город и его социальная организация представляли собой полную противоположность деревне. До начала коллективизации в 1927—1928 гг. не менее 90% крестьян принадлежало общине [46]. Крестьяне совершенно не доверяли экономической программе правительства. По традиции в условиях неопределенности они предпочитали не увеличивать производство: сколько зерна ни выращивай, все равно отберут. В результате общей экономической разрухи в 1921 г. по стране прокатилась волна голода, погибло еще около 5 млн человек. В этой ситуации надо было придумать нечто такое, что укладывалось бы в традиционное сознание крестьян, но в то же время давало бы новой власти возможность проводить свою политику. Так появилась экономическая программа НЭП — «новая экономическая политика». «Продналог» заменил «продразверстку», официально был восстановлен рынок, в мелком масштабе было разрешено частное предпринимательство, иностранному капиталу были предоставлены концессии. Эта политика укладывалась в традиционные представления, и результаты вскоре оказались просто ошеломляющими — общее производство зерна в 1926 г. сравнялось с довоенным. С введением твердого денежного обращения и финансового расчета улучшились дела и в промышленности, хотя особенно бурно развивались торговля и услуги, но все так называемые командные высоты оставались в руках государства.
В период НЭПа людям были предоставлены не только экономические свободы, наметились и более общие тенденции демократизации, а следовательно, и модернизации общества. Наступление на традиционную ментальность началось на «фронтах» общего и среднего образования. Начиная с 1920-х годов правительство организовало широкую программу обучения рабочих и крестьян без отрыва от производства. К 1930 г. уровень грамотности вырос с 33 до 63% — большой рывок вперед, с помощью которого рационализация постепенно разрушала традиционное мышление.
Другой весьма интересный пример демократизации — изменение социальной роли женщин, которые после революции получили равные политические права, но наряду с этим — и равные экономические права. Впервые женщины смогли самостоятельно жить, зарабатывая наравне с мужчинами. Нередко женщины занимали и ответственные должности. Так, патриархальное сознание с его четким распределени-

|
ГЛАВА 1. ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА
1.3. Трансформация доверия в российском/советском обществе
 ем социальных ролей по полу заменялось современным сознанием, где мужчины и женщины формально обладают равными правами. Благодаря этому изменилась и традиционная форма семьи.
ем социальных ролей по полу заменялось современным сознанием, где мужчины и женщины формально обладают равными правами. Благодаря этому изменилась и традиционная форма семьи.
Еще один замечательный феномен 1920-1930-х годов — феномен «культурности». Как ни странно, политика правительства в области образования была поддержана «снизу». Простые люди, особенно молодежь, стремились изменить свой статус, а это было возможно только для образованных людей. Роль газет и публицистики, литературы, радио, театров существенно возросла — культура из элитарной становилась массовой. Так пал еще один бастион традиционализма.
Важная черта 1920-1930-х годов — феномен бюрократизации общества. В хорошем смысле слова бюрократия означала установление рациональных, современных, а не традиционалистских, способов управления обществом и экономикой. Конечно, бюрократия принимала в традиционном коллективном сознании уродливые формы — вчерашние рабочие и крестьяне, как правило, малограмотные, получили вдруг возможность управлять и принимать решения. Они выучили формальные «правила игры», но упустили из виду тот факт, что бюрократия — это прежде всего эффективность управления. Были усвоены понятия «статуса», «иерархии», «субординации», началась форменная «погоня за должностями». Но во все еще господствующем традиционном сознании такая «работа» сопровождалась взяточничеством, «кумовством», пьянством и некомпетентностью. Новая бюрократия соединялась со старой традицией мифотворчества — так вранье и очковтирательство становились повседневной практикой.
Тем не менее начало модернизации образа жизни, сознания, культуры, экономики было положено. Постепенно традиционное доверие приобретало и новые черты, так, наряду с патриархальностью — требованием авторитета — создавались и предпосылки к формированию рационализированного доверия. НЭП, конечно, не превратил Россию в индустриально развитую державу. Хотя общий объем производства как в промышленности, так и в сельском хозяйстве превысил к 1927 г. довоенные рубежи, но страна по-прежнему оставалась крестьянской.
Согласно переписи 1926 г., население СССР достигло 148 млн человек, из них рабочие составляли 10,8%, крестьяне — 73%, остальные классы (мелкая буржуазия, ремесленники, безработные и т.д.) — 16,2% [47].
Ясно, что в таком обществе любая политика социализма была обречена на неудачу. Крестьяне жили своей особенной жизнью, не зависящей по большому счету ни от государства, ни от города. Коммунистическая идеология была не только не популярна, но ее крестьяне просто
не могли понять (например, среди сельских жителей в то время было не более 2,5% коммунистов). Сохранить такое положение дел означало оставить скрытую ловушку для власти, которая могла быть свергнута в любой момент. Необходимо было любым способом ускоренно модернизировать общество и экономику.
Так начиналась политика «социалистической индустриализации», где основное внимание уделялось не только модернизации промышленности, но и плановому ведению хозяйства и ускоренной капитализации. Первый пятилетний план в 1929 г. обещал превратить Россию в индустриальное государство. Естественно, плановые задания были выполнены досрочно, за четыре года и три месяца, хотя в реальности эта задача была более или менее выполнена только к 1950 г. Тем не менее важные сдвиги имели место — ежегодный рост ВВП превышал 5%, а рост промышленного производства был еще выше — до 17%. Кроме того, советская индустриализация удачно совпала с периодом Великой депрессии, когда многие технологические достижения были дешево закуплены в США и других странах (например, оборудование для будущего Горьковского автомобильного завода было куплено у Форда).
В 1933 г. правительство объявило о начале второго пятилетнего плана, где большее внимание уделялось не тяжелой, а легкой промышленности, но в реальности политика «форсированной индустриализации» продолжилась прежде всего за счет огромной доли накопления в национальном доходе — в среднем до 30%, при этом рекордная доля — 45% — имела место в 1932 г. [48]. Притока иностранного капитала не было, поэтому накопление осуществлялось за счет экспорта — в первую очередь древесины и зерна. Огромное количество новых рабочих мест было создано на промышленных стройках, что привлекало все больше и больше сельских мигрантов. Помогала этому и всеобщая волна энтузиазма, связанного с новым строительством.
Но одна только индустриализация не смогла бы сломить сопротивление традиционного общества. Надо было менять и сельскую жизнь, поэтому программа индустриализации была дополнена программой коллективизации. Сама идея была грандиозна — за счет более круп-пых единиц хозяйства, колхозов и совхозов, где использовалась бы современная техника и технология, преобразовать сельское хозяйство и сделать его аграрным производством. Конечно, реализовать эту идею в традиционном обществе с крестьянским сознанием было нельзя. Надо было заставить крестьян принять новые правила игры — тех, кто не хотел вступать в колхозы, отправляли в ссылку (по разным данным, туда было отправлено от 2 до 5 млн человек), опять вспомнили «Столыпин -
ГЛАВА 1. ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА
1.3. Трансформация доверия в российском/советском обществе
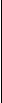 ские вагоны», опять были восстановлены «комбеды», прокатилась волна экспроприации и раскулачивания. В результате сельские жители были вынуждены искать лучшей доли в городах — только в 1931 г. около 4 млн человек покинули свои родные места. Так начиналась вторая волна «окрестьянивания» и «уплотнения» городов. К 1939 г. доля городского населения увеличилась до 33%, причем никакие меры для приема новых мигрантов приняты не были, возник феномен перенаселения городов и «коммунальных квартир», последствия которого, например в Санкт-Петербурге, не решены до сих пор.
ские вагоны», опять были восстановлены «комбеды», прокатилась волна экспроприации и раскулачивания. В результате сельские жители были вынуждены искать лучшей доли в городах — только в 1931 г. около 4 млн человек покинули свои родные места. Так начиналась вторая волна «окрестьянивания» и «уплотнения» городов. К 1939 г. доля городского населения увеличилась до 33%, причем никакие меры для приема новых мигрантов приняты не были, возник феномен перенаселения городов и «коммунальных квартир», последствия которого, например в Санкт-Петербурге, не решены до сих пор.
Новые правила («коллективизация») не были приняты крестьянством, опять, как в годы «военного коммунизма», крестьяне ответили резким сокращением производства, начался голод. В 1932 г. умерло от 3 до 10 млн крестьян, причем экспортные поставки зерна на нужды индустриализации увеличивались. В 1932 г. объем производства зерна упал до 73% от показателя 1928 г., хотя официальная пропаганда и заявляла о мифических успехах и достижениях. Так постепенно были введены двойные стандарты правды, общественная (публичная) и частная информация все больше расходились между собой. Но пропаганда оказалась успешной — в условиях трансформирующегося сознания люди были готовы поверить (доверять) тому, что официально сообщалось. Важен был источник и способ передачи/получения информации, а не сама информация. С помощью средств массовой информации — нового оружия борьбы с традиционализмом — доверие власти постепенно институционализировалось.
В 1934 г. в Ленинграде был убит С. М. Киров, что послужило поводом для начала массовых репрессий. К 1936 г. 131 тыс. человек находились под арестом, а в 1937 г. (год пика репрессий) эта цифра возросла до 1 млн человек. Атмосфера страха и неопределенности, нагнетаемая властями, сужала круг людей, которым можно было доверять. Разговоры в кругу семьи и близких друзей стали разительно отличаться от общения в рамках публичного пространства, так стало разделяться публичное и частное общение. Крестьянским по способам реализации ответом на репрессии стало массовое доносительство. «Партийные чистки» открывали путь наверх по карьерной лестнице молодым функционерам, а донос был лишь одним из средств такого продвижения. Подозрительность и недоверие к «чужим» стали нормой того времени. Власть также предоставляла адекватный крестьянскому сознанию ответ на вопрос о репрессиях — виновные в «перегибах» (сначала Ягода, затем Ежов) были примерным образом наказаны (после смерти Сталина и Берия не избежал этой участи. «Наш товарищ Берия вышел из до-
верия, а товарищ Маленков надавал ему пинков» — фраза из частушек 1950-х годов хорошо символизирует крестьянский подход к доверию).
Тем не менее террор и пропаганда парадоксальным образом усиливали общее доверие властям (особенно лично Сталину). Радиус традиционного (патерналистского) доверия был расширен до предела — власть теперь казалась сильной и незыблемой, твердой и решительной, она «проявила себя» в годы коллективизации и репрессий, все время выдумывались новые «враги, вредители и шпионы» (тем сильнее оказался шок власти, когда в годы Второй мировой войны враг вдруг оказался настоящим), с которыми и велась борьба. Враги выявлялись и должным образом наказывались, воспитывалось массовое послушание власти. Тоталитарный режим в таком трансформирующемся традиционном сознании казался естественным, нормальным и законным. Хотя новые элементы были уже очевидны — если в крестьянской общине доверие «своим» и недоверие «чужим» было безусловным и обязательным, то теперь, когда бывший крестьянин оказался в городе, где «свои», а где «чужие», было не разобрать. «Своими» казались только семья и друзья и, как ни странно, власть в лице ее высших представителей (например, фигура «отца народов»), все остальные оказались «чужими». Так воспроизводился феномен «гражданского недоверия», что, впрочем, для периода трансформации и переходного (смешанного) типа доверия было необходимым и нормальным.
Ресурсы патернализма использовались и властью. Сталин в своей речи к народу в начале войны специально выделил обращение «братья и сестры», а не официальное «товарищи». Патернализм нашел отражение и в названии самой войны — «Великая Отечественная», Отечество должно было ассоциироваться с семьей, отцом, родиной. Но на всякий случай, чтобы упредить ненужные вопросы и установить монополию на информацию и пропаганду, власти в начале войны отдали распоряжение всем жителям Москвы сдать имеющиеся у них радиоприемники (у жителей глубинки радиоприемников в то время не было). Но, как ни странно, характер информации вдруг резко изменился — приходилось давать более или менее правдивую информацию о положении на фронтах: враг был явным, а не мифическим, с ним приходилось бороться всем вместе.
С одной стороны, война сначала укрепила традиционное сознание — нация жила одним событием, чувствовала и мыслила одинаково, никто не сомневался в железной воле вождя к победе, воевали в прямом и переносном смысле «за Сталина». С другой стороны, именно военные события 1941—1945 гг. заложили, на мой взгляд, основания для
ГЛАВА 1. ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА
1.3. Трансформация доверия в российском/советском обществе

 дальнейшей трансформации традиционного сознания и доверия (первый этап преобразований относился к революционному времени).
дальнейшей трансформации традиционного сознания и доверия (первый этап преобразований относился к революционному времени).
Война затронула буквально всех жителей, каждую семью, погибло более 26 млн человек (хотя официально было объявлено лишь о семи миллионах), демографическая ситуация оказалась катастрофической — из 26 млн погибших 20 млн были мужчины, и даже в 1959 г. на 1 тыс. женщин приходилось 633 мужчины. Более 7 млн человек в годы войны были угнаны на принудительные работы в Германию, индустриальные территории (в основном крупные города) были разрушены, не менее 30% национального богатства было утрачено, 28 млн человек оказались без крыши над головой [49]. Но несмотря на эти громадные трудности, советский народ выжил и сумел преодолеть все эти испытания.
И действительно, это был уже не «русский народ» с приписывавшимися ему православием, самодержавием и народностью, а какой-то другой народ — «советский», с изменившимся сознанием, доверием и моралью. Люди, которые вели войну, делали свое дело и войну выиграли, стали независимыми — им самим приходилось принимать решения, власть не приказывала им, а полагалась на них. Эти люди — братья по оружию — научились верить/доверять друг другу больше, чем власти с ее представителями. Но они научились и ценить свои заслуги перед Отечеством, считая, что судьба страны теперь зависит от них, а не от власти вообще. Многие солдаты впервые оказались вдали от своей малой родины, они увидели Европу — от Норвегии до Австрии, познакомились с ее стандартами жизни. Оказалось, что их собственная прежняя жизнь теперь их мало устраивает. Вообще существование между жизнью и смертью на войне давало им силы поставить себя на один уровень с властью и требовать иного и лучшего. Бывшие солдаты и офицеры не хотели больше терпеть репрессии и подозрительность, считая себя (а не представителей власти — например, офицеров НКВД) элитой общества. Так постепенно формировалось новое самосознание (рационализированное восприятие себя и своей социальной роли) нации в противовес уходившему крестьянскому
Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 711; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |