
КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Вера иметод, или еще раз о правилах игры в бисер
Известно выражение, что наука начинается с веры в проблему. Конечно, это не та вера, которую имел в виду Тертуллиан в изречении "верю, ибо абсурдно". В интересующем нас контексте вера— это неартикулированное знание ученого, вбирающее опыт его работы здесь и сейчас, в данном историческом промежутке. Опыт этот социален — он отражает взаимодействие ученого с научной и общественной средой. Именно это неартикули-
рованное знание дает уверенность в том, что некий вопрос заслуживает внимания как научная проблема.
Умение найти проблему — своего рода искусство. Многие выдающиеся ученые прославились именно умением в должное время поставить кардинальные для своей области проблемы. Например, вопрос о семантическом метаязыке, сформулированный еще в 1961 г. (см. [Жолковский 1964]) как относительно частная задача, определил магистральный путь семантики на длительное время.
Подоплека веры в проблему — в силу чего и приходится говорить именно о вере — не может быть выражена в логически проясненных высказываниях. Это принадлежность внутреннего мира ученого, часть "неявного" (tacit) личностного знания. Чтобы перевести неявное знание в артикулированное, ученый располагает определенным инструментарием, т. е. методом. Инструментарий этот различается в зависимости от области науки. Во многом он зависит и от научного стиля отдельного исследователя. Но в пределах каждой области знания всегда существует некоторый канон, общепринятый способ перехода от "предзнания" к артикулированной постановке проблемы. В математике — это доказательство, в физике— определенный тип эксперимента; в психологии — также эксперимент, хотя несколько иной структуры; в истории — достоверные свидетельства. Все эти случаи объединяет метод классической (картезианской) рациональности.
Применение метода классической рациональности предполагает по меньшей мере три момента:
1) Субъект познания рассматривает метод, т. е. некую сум
му предписаний, как инструмент, позволяющий правильно дви
гаться к цели;
2) Метод осознается как таковой в достаточной степени,
чтобы ему можно было дать словесную формулировку. Иными
словами, метод можно записать в виде инструкции типа: вначале
следует сделать то-то, далее перейти к тому-то, проверить усло
вие и т. п.
3) Познающий субъект обязан уметь объяснить свой путь
другим. Иными словами, не только результат, но и пути его по-








 лучения должны быть открыты научному сообществу для сомнений и проверки.
лучения должны быть открыты научному сообществу для сомнений и проверки.
Итак, выражаясь фигурально, нормальная жизнь науки возможна только при широко распахнутых окнах и достаточно ярком свете.
Разумеется, все действительно новое мы постигаем интуитивно. Однако как именно мы нечто постигли и поняли — для науки не имеет значения. Этим современная наука отличается от магизма, где существенно, добрые или злые духи ниспослали человеку те или иные сведения.
Можно переживать обретенное знание как откровение: наука не интересуется источником откровения. Можно, наконец, просто верить. Например, во врожденный характер языковых; способностей, следуя Хомскому, или в пассионарность как всеобъемлющий исторический закон, следуя Л.Н.Гумилеву. Но если мы претендуем на общезначимость нашего знания, то нам придется помнить, что "игра в бисер" ведется по строгим правилам.
Как это происходит в реальной жизни ?
В "правильно" функционирующем научном сообществе существует сеть "невидимых колледжей" — групп ученых, имеющих "общую аксиоматику" — т. е. согласных в том, какие вопросы суть научные проблемы и какие методы признаются научны-ми. Слово "аксиоматика", как можно видеть, здесь употреблено в том его смысле, в котором оно фигурирует в разговорной речи научного сообщества, а не как термин.
Член "невидимого колледжа" обязан отдавать себе отчет в| том, чью "аксиоматику" он разделяет. "Аксиоматика" подверга-ется время от времени сомнению — это значит, что полностью или частично пересматривается данная научная парадигма. Но и способ сомневаться тоже подчиняется некоторым правилам — сомнения вне всяких правил выявляют дилетантов. Например, в экспериментальных процедурах не только оговорено, что любое измерение сопряжено с ошибками. Указано также, как следует оценивать ошибки, и в том или ином виде должно быть описано, | как это сделано в каждом частном случае.
Так, нельзя заранее ответить на вопрос о том, сколько информантов в Москве надо опросить, чтобы убедиться в том, что:
слово творог имеет два орфоэпических варианта — с ударением на первом слоге и с ударением на втором. Вначале придется решить, в каком виде следует поставить сам вопрос, чтобы он оставил за информантом возможность несмещенного ответа, т. е. чтобы информант постарался сказать, как он на самом деле произносит данное слово. Далее — собрав предварительный материал, надо оценить пределы колебаний. Желательно еще сделать пилотажный эксперимент, и только после него можно будет примерно представить, каков необходимый объем выборки и какова ошибка.
Таким образом, вне зависимости от источника нашего знания, работая в современной науке, мы обязаны зафиксировать, оформить наши знания согласно определенным образцам, а не произвольным способом. К тому же, как уже упоминалось, в научном изложении (если только мы не занимаемся такой специфической наукой, как теология) мы теряем право ссылаться на догматы и сакральные тексты с целью подтверждения истинности нашего знания.
Замечание. Для науки, в течение длительного времени подвергавшейся прессу тоталитарной идеологии, данный тезис особенно значим. Пусть отпала обязательность формальных ссылок на тексты идеологов марксизма. Осталась значительно более опасная общая тенденция к авторитаризму и догматичности мышления. По понятным причинам подобная тенденция особенно опасна именно для наук гуманитарного цикла — наук, где нет строгих методов доказательства и эксперимента.
В лингвистических сочинениях фраза "как сказал N (утверждал, упомянул, полагал, заметил)" нередко приравнивается к "как показал N". Если N, т. е. субъект высказывания, на данный период является своего рода "культовой фигурой", то принадлежащие ему высказывания меняют модус и приравниваются к сакральным текстам. Однако цитата не может претендовать на аргумент в споре. Она лишь найденный кем-то до меня способ формулировки, — возможно, заведомо более удачный, чем тот , на который сам я способен. Но от этого цитата не превращается в аргумент.
Я решительно не вижу большой разницы в том, чьи тезисы в принципе отныне не принято подвергать сомнению — Бахтина или Фуко, Пиаже или Выготского.






 6. Концептуальный анализ с точки зрения эпистемологами
6. Концептуальный анализ с точки зрения эпистемологами
В свете сказанного в разделах 4-5 рассмотрим упомянутый выше метод анализа концептов, известный как концептуальный анализ (далее — КА).
Здесь нас встретит неожиданная трудность. Чтение работ разных авторов, которые в явной форме утверждают, что они заняты КА, показывает, что КА — это отнюдь не четко определенный метод (техника, набор процедур). Более уместно было бы сказать, что соответствующие труды имеют некоторую общую цель, но не более. Что касается путей достижения этой цели, то они оказываются весьма разными.
Более того. Разница эта с точки зрения эпистемологии принципиальна: между разными авторами не только нет согласия в том, каков тот набор процедур, который следует считать КА, но нет согласия и в том, что же следует считать результатом. Тем самым, в частной эпистемологии лингвистики обнаруживается серьезный пробел.
Я попыталась систематизировать работы, посвященные КА, с целью прояснить как репертуар методов, так и представления о том, что авторы полагают результатом. Предложенная ниже группировка, разумеется, весьма условна, но имеет, с точки зрения автора данного очерка, эвристическую ценность.
Объекты анализа в работах этого типа — обычно сложные ментальные образования , выражаемые словами типа мнение, знать (знание), верить, сходство, подобие и т. п. В качестве исходного языкового материала берутся контексты из разных сочинений, в том числе — сочинений философских. Для интерпретации смыслов, т. е. той сущности, которую на письме лингвисты помещают в "лапки", привлекается личный опыт автора как носителя определенных культурных и философских традиций.
Принципиальную роль в работах этой группы играет апелляция к апперцепционному фону и, шире говоря, к жизненному опыту воображаемых собеседников. Собственно языковой материал может быть не слишком велик по объему. Он воспри-
нимается в большей мере как иллюстративный, дополняющий раннее сложившиеся позиции, утверждающий автора в его правоте, нежели как собственно проверка или побуждение к постановке новых вопросов.
В тех случаях, когда результат такого подхода получает оформление, достойное исходного замысла, мы, как правило, имеем дело с эссе. В качестве образцов мы можем указать на работы Н. Д. Арутюновой (ср. [Арутюнова 1988]).
Эссе должно ценить по законам жанра. В частности, надо помнить, что адресуясь к уму — а быть может, в еще большей мере — к вкусу читателя, автор эссе отнюдь не стремится вступить с читателем в диалог. И уж тем более — в диалог "на равных". И естественно, что из таких работ не удается "отфильтровать" собственно метод. Это всего лишь логично: ведь в эссе средства убеждения всегда вытекают из стиля мышления автора. Это особенно заметно в случаях, когда другие, менее изощренные авторы пытаются использовать средства эссеистики в качестве инструмента сугубо научных рассуждений. Такие попытки, с нашей точки зрения, заранее обречены на тривиализацию всего построения.
Замечание. Сказанное не означает, что в научных сочинениях эс-сеистическое изложение вообще не имеет права на существование. Однако, необходимо всякий раз отдавать себе отчет в том, что перед нами именно эссе. В частности, что с автором эссе надо полемизировать по иным законам, нежели с автором научного текста. Впрочем, чаще всего в разговоре с эссеистом подлинно продуктивным будет не научный спор, а сократический диалог. Великим Мастером сократического диалога в наше время был Мераб Мамардашвили. Процесс его философской работы с учениками строился именно по правилам сократического диалога, вопрошания. Отсюда — магнетическая убедительность его лекций при невозможности воспроизвести что-либо близкое к неотразимой силе этой убедительности в печати.
КА(2).
Объекты анализа здесь примерно те же, что в КА (1). Это предикатная лексика, некоторые типы пропозиций, модальные частицы, кванторы. В отличие от работ, обозначенных выше как КА(1), в качестве исходного материала обычно используются достаточно многочисленные и обширные диагностические кон-
4 — 2853





 тексты. Последние могут быть взяты из текстов или же сочинены авторами. Примеры сопровождаются развернутой неформальной аргументацией. Запись результатов в этих работах также близка к традиционной. Авторы апеллируют, как это принято в традиционных лингвистических сочинениях, к языковому чутью читателя и к его научной эрудиции. В целом работы этого типа вполне нормативны для собственно лингвистической традиции, и из них легко выделяется совокупность используемых исследовательских приемов.
тексты. Последние могут быть взяты из текстов или же сочинены авторами. Примеры сопровождаются развернутой неформальной аргументацией. Запись результатов в этих работах также близка к традиционной. Авторы апеллируют, как это принято в традиционных лингвистических сочинениях, к языковому чутью читателя и к его научной эрудиции. В целом работы этого типа вполне нормативны для собственно лингвистической традиции, и из них легко выделяется совокупность используемых исследовательских приемов.
Итак, в КА (2) традиция не отвергается, но существенно расширяется ареал привлекаемых фактов и вводятся новые точки зрения на материал. По выражению Н. Д. Арутюновой, в этих работах факты увидены "глазами" новых концепций. Важно, однако, что сами эти концепции находятся по большей части вне пределов лингвистики и формулируются в иных, нежели лингвистические, категориях. Так, лингвистику интересует не истинность/ложность высказывания, а его правильность или его осмысленность. Однако многие чисто языковые явления вне категорий логики плохо поддаются компактному описанию [Новое в в зарубежной лингвистике 1982; Новое в в зарубежной лингвистике 1986; Фрумкина 1992].
Подчеркнем, что КА (2) имеет в качестве ключевого момента постоянное присутствие "за плечом" лингвиста пары "говорящий-слушающий" вместе с их целями, ценностями и вообще с их внутренними мирами. Соответственно, в центр внимания должна попасть проблема интерпретации значения. Так из сравнительно безмятежной сферы соссюровского языка "в себе и для себя" мы переходим в запутанную сферу всей совокупности человеческих взаимодействий, осуществляемых с помощью речевых средств. Именно эту сферу Витгенштейн неосторожно назвал "языковыми играми". Этим он обрек потомков на взамное непонимание, а заодно и на поиски, которые по большей части напоминают вычерпывание бочки Данаид.
КА(3).
Вход для исследователя в данном случае — это любой языковой материал без ограничений. Можно описывать как "конкретную" лексику, так и предикатную, как способы выражения модальностей, так и феномены типа метафоры и т. п.
Метод анализа в КА (3) — это интроспекция исследователя. Вместе с тем авторы, занятые КА (3), резко отличаются по тому, как они осознают свой метод анализа. Иначе: занимаясь сходными процедурами и совпадая в представлении о результате, они имеют принципиально разные "теории среднего уровня", если пользоваться терминологией Мертона. Вежбицка осознанно разрабатывает свою частную эпистемологию, считая нужным донести до читателя свою рефлексию о методе и путях его совершенствования. В работах школы Мельчука-Апресяна метод полностью скрыт, хотя проблеме метаязыка уделено много внимания [Мельчук 1974; Апресян 1973; Мельчук и Жолковский 1984; Англо-русский синонимический словарь 1979]. Везде читателю предъявлен и эксплицирован только результат, но отнюдь не пути к его достижению. И. А. Мельчук полагает семы, т. е. "кирпичики" своего метаязыка не наблюдаемыми, а постулируемыми сущностями. Об этом прямо сказано в работе [Мельчук 1974, 59]. В противоположность Мельчуку, Вежбицка полагает семы сущностями, открывающимися лингвисту в процессе наблюдения за собственным языковым сознанием. По существу, исследовательские приемы, которые другими авторами использовались в неявном виде, она сумела раскрыть и описать, переведя в ранг тщательно отработанной частной эпистемологии.
Работы [Вежбицка 1985; 1987; 1992] фактически замечательны в качестве образцов эпистемологии лексической семантики — быть может, и ценны они именно и прежде всего в этом качестве. Разумеется, конкретный материал, в них приведенный, можно описать и как-то иначе — в частности, и так, как это сделано нами в книге "Семантика и категоризация" [1991]. Но все упомянутые работы Вежбицкой уникальны как образцы рефлексии по поводу свой рефлексии — т. е. как образцы превращения неявного, неэксплицируемого знания в эксплицируемое.




 7. Две "когнитивные революции" и их роль для лингвистики
7. Две "когнитивные революции" и их роль для лингвистики
Сегодня мы понимаем, что артикулированное, осознаваемое знание — это лишь часть наших знаний. Притом, как оказалось, место артикулированного знания в общей системе знаний сильно преувеличено. Это касается также и наших знаний о человеке, о его психике и о языке. В лингвистике и психологии, а также в психолингвистике осознанию этого обстоятельства способствовали разные факторы.
Укажем те, что нам кажутся важнейшими:
1) успехи и неудачи в создании действующих моделей язы
ка, воплощенных в виде систем автоматического анализа и син
теза текста;
2) успехи и неудачи теории информации в сфере понима
ния структуры языка и человеческой коммуникации;
3) смещение акцентов в психологии и вообще в науках о
человеке, которые можно было бы кратко описать как переос
мысление отношений "природа" vs "культура".
В книге "Acts of meaning" [Bruner 1990] Дж, Брунер рассмотрел действие примерно тех же факторов, что и перечисленные выше, но сделал это в хронологическом порядке, начиная с конца 50-х гг. и до начала 90-х. Взаимодействие всех этих разнонаправленных тенденций Брунер описал как "две когнитивные революции". Первую он относит к 50-м гг., вторую— к концу 60-х.
Поскольку в нашей стране все это происходило с существенными временными сдвигами, более удобно обсуждать суть когнитивных революций с точки зрения их движущих сил, а не следуя хронологии.
Начнем с той "переоценки ценностей", которая связана с факторами, сгруппированными выше в п. (1).
Как известно, в свое время побудительным мотивом для разработки действующих моделей языка послужила вполне прагматическая задача — попытка создать систему автоматического
перевода. Интенсивный характер эти работы приобрели параллельно с широким распространением вычислительных машин. Было создано много красивых формальных моделей. Некоторые из них были достаточно детальны и мощны, чтобы на их основе создать эффективно действующие системы автоматического анализа и синтеза текста.
Со временем, однако, даже лучшие из таких моделей обнаружили свою принципиальную ограниченность. Оказалось, что соответствующие алгоритмы сугубо эмпиричны. Коротко говоря, это проявляется в следующем. С одной стороны, эти алгоритмы весьма изощрены и остроумно реализуют решения огромного числа конкретных задач. С другой стороны, постоянно обнаруживаются все новые и новые частные случаи, не предусмотренные ранее в соответствующих алгоритмах.
Существенно, что в сколько-нибудь обширных текстах такие случаи всегда есть, так что попытка сделать алгоритм исчерпывающим лишь приводит к его невероятной громоздкости.
Указанное обстоятельство позволило сделать из этих исследований один в высшей степени важный общий вывод, а именно: язык оказался принципиально менее регулярной структурой, чем это представлялось ранее.
Этот новый и весьма весомый для эпистемологии лингвистики тезис почему-то не привлек особого внимания. Возможно, данная ситуация имеет свои основания. Действительно, успехи в практике использования персональных компьютеров для обработки текстов, в особенности — при работе с большимим текстовыми массивами — сдвинули внимание в сторону задач более узких и обозримых, нежели автоматический перевод (ср., напр., задачу создания рабочей среды для лингвиста в [Старостин 1994]).
Тем самым, в русле данного направления теоретические задачи— а именно, использование действующих моделей языка как инструмента конструирования особого объекта изучения — окончательно ушло на задний план.
Одновременно практические успехи, достигнутые в работе с компьютерами, способствовали укоренению совокупности представлений, которые я буду называть далее "компьютерной метафорой". (Более подробно разговор о компьютерной и прочих метафорах пойдет ниже.)



 Факторы, объединенные в п. (2), лежали в основе подхода к языку как к кодовой системе. В целом такой подход сыграл огромную роль в том, что язык стал рассматриваться как одна из кодовых систем в ряду других и в сравнении с ними. Тем не менее, если говорить о конструировании нового объекта исследования, где язык рассматривается прежде всего с позиций теории информации, то с конца 50-х гг. здесь особого продвижения не наблюдалось. Это можно увидеть, в частности, если заново обратиться к работе Е. В. Падучевой [Падучева 1961].
Факторы, объединенные в п. (2), лежали в основе подхода к языку как к кодовой системе. В целом такой подход сыграл огромную роль в том, что язык стал рассматриваться как одна из кодовых систем в ряду других и в сравнении с ними. Тем не менее, если говорить о конструировании нового объекта исследования, где язык рассматривается прежде всего с позиций теории информации, то с конца 50-х гг. здесь особого продвижения не наблюдалось. Это можно увидеть, в частности, если заново обратиться к работе Е. В. Падучевой [Падучева 1961].
Возможно, в чисто эпистемологическом аспекте можно было бы рассматривать совместное влияние факторов группы (1) и (2) на науки о человеке в целом, во всяком случае, на лингвистику, психологию и психолингвистику. Такую трактовку можно найти как раз у Брунера, что естественно для человека, начинавшего свою работу в 50-х годах в Гарварде вместе с Дж. Миллером, Романом Якобсоном и знаменитым антропологом Клиффордом Герцем.
Более "гуманитарный" подход к пониманию языка и связанных с коммуникацией психических процессов можно отнести к концу 60-х. Этот период Брунер считает второй когнитивной революцией. Стало ясно, что в лингвистике и психологии нельзя считать запретными такие вопросы, как: что такое ментальные сущности и состояния, воля, интенции, представления о внешнем мире, сформированные конкретной культурой и т. п. (Соответствующие сдвиги отражены в факторах, которые выше мы объединили под п. 3.)
В новой лингвистике и новой психологии на первый план выдвинулись проблемы означивания и роли культурных составляющих, т. е. изучение человека как детерминированного прежде всего культурой и историей, а не природой. Причинное объяснение и возможность прогноза, так ценимые позитивистской психологией, перестали быть волнующими темами. Но постпозитивизм возможен только после позитивизма. Фактически же позитивизм продолжал оставаться влиятельным дольше, чем можно было бы подумать, если исходить из деклараций, а не из содержания основного массива научных публикаций.
Брунер считает, что первая когнитивная революция закончилась своего рода бифуркацией: одна линия развития наук о че-
 ловеке привела к созданию компьютерных моделей, в связи с чем популярны стали "компьютерные метафоры". Другое направление характеризует ученых, которые стремились к интеграции лингвистики и психологии с культурной антропологией и другими науками о человеке. Это направление и реализовалось в перспективе как вторая когнитивная революция.
ловеке привела к созданию компьютерных моделей, в связи с чем популярны стали "компьютерные метафоры". Другое направление характеризует ученых, которые стремились к интеграции лингвистики и психологии с культурной антропологией и другими науками о человеке. Это направление и реализовалось в перспективе как вторая когнитивная революция.
Первую линию — уход от значения к информации, от изучения самого процесса означивания к процессам обработки информации,— Брунер считает непродуктивной. Ведущую роль здесь сыграла идея компьютерной модели интеллекта (ср. обсуждение известной книги Винограда и Флореса "Understanding computers and cognition" в [Фрумкина 1990]). Теории стали оцениваться с точки зрения возможности представления психических процессов с помощью алгоритмов или действующей компьютерной модели.
Но переработка информации не порождает ничего нового, кроме того, что уже имелось на входе и задано правилами операций с входом. Вычислительные операции сами по себе не создают новых единиц, значение которых подлежало бы интерпретации.
Вместе с тем, взрыв информационных технологий имел серьезные социальные последствия для лингвистики и психологии. А именно: он побудил лингвистов и психологов перейти на роль ученых, которые стали как бы обслуживать это направление. Вместо формулировки своих собственных задач многие лингвисты и психологи стали мыслить преимущественно в прикладных терминах. (Заметим, что в России нечто подобное начинается только теперь, в 90-е годы, когда произошло массовое "пришествие" персональных компьютеров, и одновременно, уже по чисто экономическим причинам, лингвистика и психология как фундаментальные науки потеряли социальный престиж, ср. [Фрумкина 1993; 1994].)
В той мере, в которой когнитивные процессы стали описываться в терминах компьютерных операций, проблемы мышления и значения были подменены проблемами переработки информации и компьютерного моделирования. «So long as there was a computable program, there was "mind"» [Bruner 1990, 7]. Так идея создания компьютерной модели трансформировалась в компьютерную метафору. По словам Брунера, в новых способах упо-



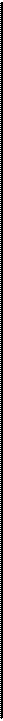 треблять такие слова, как грамматика, правило, вывод всего-навсего спрятались плоские смыслы, сводящие действительные проблемы к компьютерному жаргону.
треблять такие слова, как грамматика, правило, вывод всего-навсего спрятались плоские смыслы, сводящие действительные проблемы к компьютерному жаргону.
По-видимому, прежде чем окончательно стала ясна роль факторов группы (3), этот путь следовало пройти до конца.
Вторая когнитивная революция началась тогда, когда открылся своего рода тупик: оказалось, что в науке о человеке нет места главному, что создало человека и его интеллект — культуре. Конститутивная роль культуры была ей, так сказать, публично возвращена. Это заставило по-иному отнестись к роли языка и операций со знаками и символами. Упомянутая выше книга "Understanding computers and cognition" [Winograd, Flores 1987] в весьма заостренной форме отразила этот процесс и именно поэтому стала сенсацией.
Замечание. В истории наук о человеке явно чередуются две парадигмы, и это чередование во временном аспекте много шире, чем описанные Брунером "когнитивные революции". Одна парадигма — это та, в рамках которой исследователь поступает с объектом исследования так, как если бы человека создала исключительно природа. Другая парадигма обязывает исследователя помнить, что человека создала прежде всего культура. Если задуматься над этим простым качанием маятника, возникает чувство естественного удивления. Неужели Хомский не понимал роли "культуры"? Понимал, иначе он не написал бы "Language and mind" [Chomsky 1968]. Неужели Пиаже, основные труды которого с 1926 года регулярно переводились на английский язык, а классические, резюмирующие публикации тоже вышли задолго до появления компьютеров и увлечения теоретико-информационными подходами, не понимал роли "природы"? Вероятно, вполне понимал, раз уж он привязал свои стадии к определенным биологическим возрастам ребенка.
И неужели вся ученая Америка "дожидалась" выхода в 1962 году перевода "Языка и мышления" Выготского на английский, чтобы окончательно заявить о социальности понятия "значение"? В конце концов, со времен начала развития культурной антропологии — т.е. как минимум со времен Малиновского — было ясно, что человека создает прежде всего культура. Конечно, "действуя" в рамках, определяемых природой, т.е. в рамках, ограничиваемых биологическими факторами.
Равным образом представление о том, что даже восприятие — это процесс, детерминированный преимущественно культурными факторами, восходит, по меньшей мере, к гештальтистам.
Тем самым, мы оказываемся перед еще одной эпистемологической проблемой: каковы конкретные обстоятельства общенаучного характера, благодаря которым в науках о человеке — и лингвистике в том числе — акценты перемещались то на факторы природы, то на факторы культуры.
Эта задача, впрочем, останется за пределами данной статьи.
Так или иначе, доминанту современного состояния наук о человеке можно было бы назвать "Вперед, к Гумбольдту!"
Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 321; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |