
КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Философия языка: путь к новой эпистеме
1.
Процессы, происходящие в современной лингвистике, представляют собой выражение некоторого общенаучного (и, шире, общекультурного) движения к переделу границ и сфер компетенции наук, которые к концу XIX века казались уже вполне и окончательно определенными./Естествознание активно вторгается в область гуманитарного знания (деятельность теоретиков второй и третьей волны позитивизма, системный подход Л. фон Берталанфи, синергетическая картина мира), гуманитарные науки активно участвуют в создании новой— ноосфер-ной — парадигмы научного мировоззрения, в биологию, физику и космологию возвращается телеологизм, от которого они, казалось бы, окончательно отошли к XVIII в.; обнаруживаются области не только соприкосновения, но и наложения наук, не пред-ставимые ранее, как, например, биология и этика породили энергично развивающуюся эволюционную этику.
В таком контексте интересно проследить судьбу наук о языке, переживающих в настоящее время наиболее, пожалуй, глубокие изменения. Для этого необходима определенная отстраненность от внутренней логики развития событий внутри лингвистики, так же, как и философии, социологии, психологии.
При таком подходе достаточно определенно просматриваются инварианты развития, обусловленные природой общего для этих наук предмета. Естественно, предмет, скажем, психологии, не сводится к одному только языку, но именно эта сфера является своего рода общим подмножеством для названных наук.
Обращаясь к истории, мы видим, что лингвистика достаточно быстро исчерпала содержание ("глубину") своего первоначального, эмпирически-описательного периода развития; это произошло уже к середине XIX века. Начиная с В. фон Гумбольдта, языкознание все более настоятельно обращается к объяснению глубинных закономерностей возникновения и функционирования своего предмета— языка как целостного феномена человеческого бытия. Уже само определение языка как средства коммуникации и, одновременно, уникальной среды, в которой только и находит свое выражение "дух народа", его культура и история, предполагает выход (пока только потенциальный) за пределы описания, систематизации и классификации естественных языков. Напомним, что, как хорошо показал М.Фуко, именно XVIII век был веком расцвета классификации; к XIX веку наметился общий переход к более углубленному вслушиванию в имманентную, сущностную жизнь познаваемого предмета.
Как кажется, выход лингвистики к проблемам "язык и история", "язык и культура" и, особенно, "мысль и язык" не мог быть обеспечен методологическими и концептуальными средствами самой лингвистики: слишком велик был разрыв между возможностями линнеевской парадигмы и глубиной, многозначностью и даже неопределенностью поставленных проблем, а попытки использовать результаты исследований философов (прежде всего — эмпириков Дж. Локка и, в меньшей степени, Т. Гоб-бса) были блокированы упорной несовместимостью лингвистического и философского подходов к языку. Эта "утрата определенности" с тех пор не оставляет самосознание лингвистики, уже и в XIX веке прорывается: "Лингвистика— изучение языка, но мы не обладаем априорным знанием относительно того, что есть язык и потому нам неясен сам предмет лингвистики" [Левин 1990, 342].
С другой стороны, вопрос о сущности языка всегда, по крайней мере начиная с софистов и Платона, рассматривался в

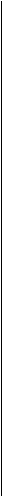


 качестве философской проблемы. Впрочем, трудно говорить здесь о проблеме — вопросе, так или иначе предполагающем разрешение; скорее, философия вела тему языка, тему не всегда явную и четко выраженную, но постоянную. Тема языка в философии окружена некоторым флером загадочности и даже мистичности; классическая философия вплоть до XX века старательно избегала всего, что могло бы прояснить эту ситуацию. Причины для этого весомы и коренятся прежде всего в природе самого философского, в данном контексте — метафизического дискурса.
качестве философской проблемы. Впрочем, трудно говорить здесь о проблеме — вопросе, так или иначе предполагающем разрешение; скорее, философия вела тему языка, тему не всегда явную и четко выраженную, но постоянную. Тема языка в философии окружена некоторым флером загадочности и даже мистичности; классическая философия вплоть до XX века старательно избегала всего, что могло бы прояснить эту ситуацию. Причины для этого весомы и коренятся прежде всего в природе самого философского, в данном контексте — метафизического дискурса.
Вот характерный пример метафизической позиции по данному вопросу: "На самом деле философы, благодаря которым мы знаем, что такое философия, никогда не ставили отдельно вопрос о языке. Осмысление имени, слова всегда переходило у них на сами вещи, и, с другой стороны, когда они говорили "язык", они не огораживали себя предметом, который описан в учебниках по языкознанию: через язык жестов, язык молчания и язык природы они бысгро переходили опять же к самим вещам, к миру, как Платон, заведя речь об "элементах" слова, думает о стихиях, из которых словно огромная прекрасная речь составлен мир" [Би-бихин 1993, 5]. Действительно, Платон, да и другие философы, чаще всего, говоря о языке, предполагали, что речь идет не о человеческих языках, а о языке самого мира, о языке вещей. Однако сама эта интенция философии абстрагировать язык от человека и функционирования, — не произвольно выбранная позиция, она связана со своеобразной чертой метафизики — "антиноминалистским неврозом". Отчасти парадоксальная ситуация: философы, особенно представители метафизики Единого, пытаются трактовать мир, как единое смысловое целое, где каждая вещь сопряжена с высшим началом множеством нитей, где все частные смыслы так или иначе входят в общее семантическое поле, но в то же время негативно относятся к номинализму, мысля по максиме "Имя вещи есть сама вещь".
Философия в этом отношении всегда была достаточно категорична. Между языками естественными и языком, о котором ведут речь философы, существует непреодолимая граница: естественные языки представляют собой предмет осуждения и критики, их смысловые и коммуникативные возможности ограничены пределами эмпирического бытия (детальнее см., например, [Се-
рио 1993; 1994]. Естественный язык с точки зрения метафизика — язык профанный, не приспособленный для того, чтобы говорить на нем о высоких метафизических истинах. Это отношение к "языку смертных о двух головах" (Парменид) ведет свое происхождение еще от досократической философии: Гераклит говорит о людях, не внимающих логосу, единому для всех, и потому мыслящих так, как будто они все время пребывают во сне (см. [Фрагменты... 19Р9, 189]). Профан не понимает истинного значения тех слов, которые он употребляет, "сам не ведает, о чем он говорит".
Это пренебрежение к естественным языкам сочетается со стремлением философии к разработке и использованию особого метафизического языка, в котором отсутствовали бы недостатки, присущие языкам естественным. Характерно, что эта интенция проходит через всю историю классической метафизики и даже выходит за ее пределы (например, отражена в программе лингвистического атомизма Б, Рассела и Л. Витгенштейна периода "Логико-философского трактата"). Собственно, то, что определяется как метафизический дискурс, и есть результат реализации этой установки. Таким образом, метафизика всегда претендовала на особое положение в сфере языка, стремилась к статусу единственной хранительницы языка абсолютного, совершенного и эзоте-ричного. Язык метафизики, как он представлен в философии Единого (Царменид и элеаты — Платон — неоплатоники — Спиноза — Гегель), — жестко организованная система понятий, в которой все элементы находятся в строгом подчинении фундаментальному концепту Единого. Здесь снимается проблема референции, а соответственно устраняются полисемия и омонимия, неизбежные в естественных языках, поскольку единственным денотатом метафизических понятий является универсальный континуум смыслов.
Содержание понятий в таком языке определяется тем участком континуума, который позволено "распаковать" данному ограниченному понятию. Определение тогда, действительно, понимается только как ограничение (Спиноза), и смысл концептов метафизического языка определяется не их отношением к вещам, а, скорее, местом их в иерархии, в жестко организованной структуре.

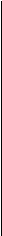


 122
122
 Существенной характеристикой таким образом организованного языка является его замкнутость: метафизический язык построен (сконструирован) подобно логическому исчислению. Отсюда и его эзотеричность, ведь войти в исчисление можно только приняв его правила. Принятие правил здесь является безусловным кодом, используя который можно воспринять метафизические тексты как осмысленные. Извне, из пространства естественного языка, метафизические понятия выглядят бессмысленными (хотя в парадигме метафизики как раз естественные языки видятся слабоосмысленными, невнятными). Такой тип языка, который вырабатывала в течение своей истории метафизическая философия, можно определить как "язык-субстанция" (понимая "субстанцию" в качестве носителя предельно совершенных, прозрачных смыслов). Метафизический язык самодовлеющ, и, кажется, даже не нуждается во внешнем мире (в некоторых версиях он и осуществляет вытеснение эмпирического внешнего мира, заменяя его миром идеальных сущностей).
Существенной характеристикой таким образом организованного языка является его замкнутость: метафизический язык построен (сконструирован) подобно логическому исчислению. Отсюда и его эзотеричность, ведь войти в исчисление можно только приняв его правила. Принятие правил здесь является безусловным кодом, используя который можно воспринять метафизические тексты как осмысленные. Извне, из пространства естественного языка, метафизические понятия выглядят бессмысленными (хотя в парадигме метафизики как раз естественные языки видятся слабоосмысленными, невнятными). Такой тип языка, который вырабатывала в течение своей истории метафизическая философия, можно определить как "язык-субстанция" (понимая "субстанцию" в качестве носителя предельно совершенных, прозрачных смыслов). Метафизический язык самодовлеющ, и, кажется, даже не нуждается во внешнем мире (в некоторых версиях он и осуществляет вытеснение эмпирического внешнего мира, заменяя его миром идеальных сущностей).
Ориентация философии на создание своих собственных языковых моделей, изолированных от среды живого языка, моделей, имеющих универсальный, субстанциальный характер, привела к тому, что создалась труднопреодолимая дистанция между философией и науками о языке. Эта дистанция не была устранена и в постметафизический период XIX — начала XX веков, когда позитивистские дискуссии о проблеме значения осуществлялись в определенной изоляции от конкретных наук. Исключение здесь составляли разве только математика и логика, но особые отношения у философии с ними установились достаточно давно — еще тогда, когда логикам и математикам (в силу того, что эти науки также имеют дело с искусственными языками) была отдана разработка проекта универсальной грамматики (проект Пор-Рояля и др.; впрочем, Лансло как раз был известным языковедом).
Наиболее серьезный прорыв из "парадигмы замкнутости" философии по отношению к естественному языку был совершен тогда, когда рухнула фундаментальная онтологическая идея классической метафизики, идея субстанции (Единого). Классическая онтология обрушилась не сразу, она "поплыла", потеряла свою плотность (по образному выражению М.К.Мамардашвили,
"стала пятнистой, клочковатой"). В этой ситуации философия попыталась вернуть онтологической картине мира связность через обращение к пространству языка. Здесь язык понимается уже в качестве универсального прафеномена, самостоятельно продуцирующего и эксплицирующего свое содержание. Наиболее показательна в этом отношении позиция М.Хайдеггера, который, интерпретируя язык как "дом бытия", оборачивает традиционное для метафизики понимание отношения "мысль-язык". Для него язык есть не столько инструмент, обслуживающий мысль, сколько мысль есть способ, которым актуализируются изначальные ("первоначальные") смыслы, содержащиеся в языке.
Такая постановка вопроса о языке предполагает обращение к его прагматическим аспектам, подчеркнутое внимание к тем формам, которые принимает язык в нефилософских видах деятельности (прежде всего здесь идет речь о языке поэзии). Для Хайдеггера язык поэзии выглядит даже более привлекательным, чем логицистские построения "новоевропейской метафизики", поэтому он пытается и философии придать форму более свободного изложения ассоциативного характера. Такая манера философствования, по Хайдеггеру, как раз и была свойственна древним, которые благодаря своей открытости миру языка, благодаря "доверию к языку", были ближе к истинной мудрости, к речи бытия в его первозданности. Хайдеггер фактически открывает для философии то, что язык не нуждается в некоем вышестоящем "внеязыковом" носителе, он есть не "язык субстанции", а, скорее, "язык-субстанция" (блестящий анализ "философии языка" Хайдеггера см. [Михайлов 1993]).
В целом мир постклассической (в широком смысле) философии оказывается все более развернуто вовлечен в естественноязыковое пространство, а философские концепции приобретают отчетливо выраженное лингвистическое (лингвофилософское) звучание. Интересно, что философы долго не могли отказаться от идеи абсолютного, совершенного языка — даже тогда, когда пытались обнаружить этот язык вне философии, как это мы видим; например, в школах позитивистского направления, выдвинувших тезис об универсальном характере языка науки. Впрочем, достаточно быстро стало ясно, что попытки разработки совершенного синтаксиса (Р, Карнап), логико-атомистическая те-






 рапия (Б. Рассел, Дж. Айер), да и сциентизм логицистского направления вообще, не только практически не слишком удачное предприятие, но в целом носят суицидальный характер, поскольку имеют результатом разрушение своей главной концептуальной ценности — идеи особого статуса языка науки. Эволюция Л. Витгенштейна от логического атомизма ("Логико-философский трактат") к концепции языковых игр ("Философские исследования") представляется в этом отношении вполне показательной.
рапия (Б. Рассел, Дж. Айер), да и сциентизм логицистского направления вообще, не только практически не слишком удачное предприятие, но в целом носят суицидальный характер, поскольку имеют результатом разрушение своей главной концептуальной ценности — идеи особого статуса языка науки. Эволюция Л. Витгенштейна от логического атомизма ("Логико-философский трактат") к концепции языковых игр ("Философские исследования") представляется в этом отношении вполне показательной.
Витгенштейн, который сам принял активное участие в постановке и обсуждении роковой для позитивизма проблемы значения, обнаруживает, что философы вполне традиционно метафизичны, пытаясь обнаружить высшую семантическую реальность, метафизические механизмы задания значений. Витгенштейн приходит к убеждению в необходимости просто обратиться к способу использования слов метаязыковой природы: «Когда философы употребляют слова "знание", "бытие", "предмет", "я", "предложение", "имя" и стремятся постичь сущность вещи, всегда следует задаться вопросом: действительно ли это слово хоть когда-либо употреблялось таким образом в том языке, откуда оно происходит» [Витгенштейн 1985, 125]. Результатом этого сомнения оказывается представление о том, что значение полностью определяется словоупотреблением, более того, они вообще тождественны — значение и есть употребление. Язык, таким образом, не имеет метафизической, статуарной природы, и именно поэтому философия (которая еще в "Логико-философском трактате" определялась как "прояснение слов") не может постичь сущность языка: «Мы заблуждаемся, полагая, что то, что есть в нашем исследовании особенного, глубокого и важного, заключается в том, что оно стремится постичь несравненную сущность языка. То есть порядок, имеющий место между понятиями предложения, слова, умозаключения, истины, опыта и т. д. Этот порядок представляет собой сверхпорядок, имеющий место между, так сказать, сверхпонятиями. Тогда как на самом деле слова "язык", "опыт", "мир", если они имеют какое-либо употребление, должны иметь столь же простонародное употребление, как и слова "стол", "лампа", "дверь"» [Витгенштейн 1985, 121].
Смещение философии в область прагматики оказалось важным прежде всего для самой философии: философский дискурс начинает размываться, терять свою метафизическую замкнутость и жесткость, философия становится все более открытой и многообразной. Однако появление философии в проблемном поле исследования языка несколько задержалось, во всяком случае, современная лингвофилософия своим появлением больше обязана лингвистике, чем классической метафизике. При этом взаимное отталкивание классической метафизики и лингвистической философии (философии лингвистического анализа и, шире,— аналитической философии) в XX веке приводит к образованию своего рода пустого пространства в вопрощании о языке. Философия языка все более оформляется в школу со своим категориальным и методологическим аппаратом, который становится чуждым для ортодоксальной метафизики. Точно так же и наследие философской классики остается для лингвофилософии скорее предметом критики — здесь создается явный разрыв в традиции.
С другой стороны, лингвистическая философия, которая имеет мало общего с классической философией, явно тяготеет к теоретическому языкознанию. Не случайно некоторые исследователи являются общими авторитетами в обеих дисциплинах (как, например, британский философ-аналитик, основоположник теории речевых актов Дж.Остин). В рамках лингвофилософии одной из наиболее значимых идей стала идея симбиоза философии и лингвистики (ср. у того же Остина проект "лингвистической феноменологии*1), в котором философия ориентировалась бы прежде всего на выполнение терапевтической (пропедевтической) функции. Эта идея, однако, предполагает взаимное движение философии и лингвистики навстречу друг другу.
Что же касается лингвистики, то она на определенном этапе своего развития проявила тенденцию к самозамыканию, сходную по характеру с той, что реализовалась в метафизической философии. Речь идет о времени господства структуралистской парадигмы в начале — середине XX века. В рамках данного подхода язык все более отчетливо видится системой знаков, а лингвистика— учением о знаковых системах. Складывается впечатление, что философы заразили лингвистику вирусом недоверия к естественному языку. Эта ситуация в структуралистской лингвис-





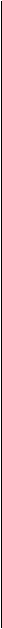 тике во многом напоминает интерпретацию языка в позитивистской философии более раннего периода; движение мысли при этом было параллельным.
тике во многом напоминает интерпретацию языка в позитивистской философии более раннего периода; движение мысли при этом было параллельным.
Таким образом, образовался определенный зазор между философией и лингвистикой (хронологически — своего рода временной сдвиг), сходный с тем, который разделил классическую философию и лингвофилософию. Ситуация осложнилась тем, что к середине XX века в проблемном поле языка появляются психологические и социологические концепции языка, причем этот "лингвистический прорыв" указанных наук также нельзя счесть случайным. Так, психология в своем историческом развитии достаточно рано выдвинула проблему "язык и мышление", которая могла считаться сколько-нибудь удовлетворительно разрешенной только до тех пор, пока первоначальное определение мышления как индивидуального психологического процесса не стало вызывать среди психологов серьезных разногласий. Впрочем, только это, достаточно простое, определение предполагало неразрывность и полную взаимоадекватность мышления и речи; поэтому усложнение фундаментального концепта мышления поставило проблему некоей особой природы языка, в рамках которой устанавливается, что "мышление и речь имеют генетически совершенно различные корни" (Л. С. Выготский).
В теории языка Л. С. Выготского мышление и слово понимаются уже как полярные члены оппозиции, отношение между которыми представляет собой развивающийся процесс, "движение от мысли к слову и обратно — от слова к мысли". В исследовании этого отношения важное значение приобретает теория "эгоцентрической речи" у Выготского и в генетической эпистемологии Ж. Пиаже, которая во многом соотносима с соответствующей парадигмой (с "философией эгоцентрических слов", по Ю. С. Степанову) в философии языка.
Вторая причина, привлекшая внимание психологов к нетривиальным для них аспектам языка, заключалась во все более широком распространении поведенческой парадигмы в философии. Сама бихевиористская установка на отказ от интерпретации мышления в качестве "субстанции" (в оговоренном выше смысле) и обращение к проблемам коммуникации в схеме "стимул-реакция" обусловила необходимость исследования слова
(точнее, значения слова) как существенного элемента этой схемы. Это направление исследований оказалось чрезвычайно продуктивным не только для бихевиористской психологии. Рассмотрение носителя языка в качестве психологически определенного субъекта предполагает активное вхождение в теорию языка целого комплекса идей, относящихся к взаимовлиянию психических и речевых, вербальных моментов в общении.
Бихевиористская психология явно тяготеет к позитивистской методологии — она уходит от вопросов о некоей предельной сущности языка и мышления, сосредоточивая свое внимание на непосредственно доступных, наблюдаемых процессах. В этом случае важное значение приобретают проблемы (в том числе аксиологические), относящиеся к прагматике. Характерно, что выход психологии к прагматическим аспектам речевой деятельности в хронологическом плане предшествует появлению собственно лингвистической прагматики, которую в каком-то смысле можно рассматривать как ответ на ожидания со стороны смежных наук: мы видели, насколько сильны прагматические интенции поствитгенштейновской философии. В этом поле взаимных ожиданий явно намечается многообразное и разноаспектное сближение лингвистики, психологии и философии, хотя процесс сближения носит во многом сложный, турбулентный характер. Во всяком случае, в критической деятельности они достаточно согласованы (отрицание субстанциальности сознания, автономной языковой реальности, антипатия к "картезианской парадигме"), но желаемый симбиоз явно не достигается в продуктивной части. Философия аналитического направления включает в себя бихевиористские концепции (Г. Райл), элементы психоанализа (Дж. Уиздом), возникают причудливые переплетения, комбинации экзистенциальной философии, феноменологии и структурализма (Ж. Лакан). Несколько позднее к этому процессу подключаются социология и социальная философия, которые пришли к проблемам языка в процессе осмысления феноменов рациональности и рационального поведения. В определенном отношении социология со времен М. Вебера все более и более вовлекалась именно в языковое пространство, а лингвосоциологическая проблематика (прежде всего, проблематика дискурса) становилась преобладающей в теоретической социологии.




 Послегегелевская (и в целом постклассическая) философия истории предприняла попытку выйти из круга абстракций через устранение идеи истинной, внеэмпирической истории-субстанции. Но в таком случае возникает проблема поиска истоков историчности, решение которой в рамках, скажем, концепции Дильтея оказалось достаточно радикальным: историчность есть атрибут человеческого бытия. Впоследствии этот тезис стал общим для философии и за пределами "философии жизни" (например, у Хайдеггера историчен именно Dasein).
Послегегелевская (и в целом постклассическая) философия истории предприняла попытку выйти из круга абстракций через устранение идеи истинной, внеэмпирической истории-субстанции. Но в таком случае возникает проблема поиска истоков историчности, решение которой в рамках, скажем, концепции Дильтея оказалось достаточно радикальным: историчность есть атрибут человеческого бытия. Впоследствии этот тезис стал общим для философии и за пределами "философии жизни" (например, у Хайдеггера историчен именно Dasein).
Характерно при этом, что само понятие мира как "жизненного мира" предполагает лингвистическое измерение (формы жизненного мира понимаются как пребывающие в определенном лингвистическом поле). Историцизм (или радикальный историзм) перестает быть изолированным течением в философии, приобретает всеобщий характер. Такое видение мира "снимает" философию истории в качестве отдельного учения: история перестает быть проблемой философии, скорее, философия становится проблемой истории и историчного сознания.
Здесь, вероятно, и заканчивается параллелизм между философией истории и философией языка: именно тогда, когда история перестает быть проблемой философии (метафизики), язык становится действительной проблемой для философии. Это обусловлено восхождением феномена истории к прафеномену времени (тогда как язык в большей мере предопределен прафеноме-ном пространства). Рефлексия— прежде всего философская рефлексия — относительно истории возможна только при условии вынесения мыслителя вовне времени, и эта фигура атемпораль-ности предполагает отказ от видения времени вообще: не случайно Августин, отдавший столько усилий познанию времени, в конечном счете приходит к идее несуществования как прошлого и будущего времени, так и времени настоящего; которое мыслимо только как переход из уже не существующего прошлого в еще не существующее будущее. Сходным образом и у другого основателя философии истории, Платона, истинное бытие носит вневременной характер.
Первый же разлом в концептуальном единстве метафизики приводит к тому, что в метафизику вновь врывается проблема времени, которая разрушает метафизику в целом. Метафизику
размывает, размывает течение времени. Именно поэтому попытки сохранить философию истории хотя бы за счет радикального историзма приводят к необходимости мыслить историю в неорганичной для нее форме— пространственной. Отсюда— обращение к языку: так, Шпенглер, строя учение о морфологии культур, пытается перевести историю из временного измерения в пространственное, свести ее к рядоположенности форм, но проект постепенно трансформируется, Шпенглер приходит к исследованию языков культуры. Для языка (в том числе для языка культуры) пространство является формообразующим началом (детальнее о пространстве как универсальном символе культуры см. [Руденко 1994]), и именно этот факт предопределил частичное преобразование шпенглеровского исторического проекта в проект лингвофилософский.
Сходной логике подчиняется развитие философии языка, которая, в существенной мере возникнув на противостоянии метафизике, постепенно становится отправной точкой процесса трансформации философии в целом: лингвокритика обнаружила противоречивый характер фундаментальных концептов метафизики, определяемый отсутствием de facto у метафизического языка предметного денотативного поля, что, в свою очередь, означает сведение метафизики к языковой игре (при понимании игры как одной из наиболее серьезных составляющих человеческого бытия). Такое определение метафизики лишает последнюю права претендовать на роль абсолютного, сверхпрозрачного дискурса, выдвигая вопрос об особенном (всего лишь особенном, но не универсальном) характере метафизического языка, соотнесенности его с тем или иным из альтернативных миров, ср. идею Ю. С. Степанова о том, что дискурс является языковым выражением альтернативного мира.
Это смещение метафизики в ряд разнообразных, но равноправных, неавторитарных дискурсов создает многообразные возможности последовательной рефлексии относительно самой сущности философии, осознания ее игровой— может быть, даже лингвистически игровой — природы. Если даже метафизический дискурс перестает восприниматься (в том числе самим собой) в качестве универсального, a priori авторитарного, то тем большие возможности возникают для равноправного, во многом игрово-5*



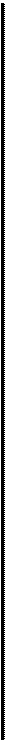 го общения дискурсов метафизики, лингвистики, социологии, психологии, etc. Общения, которое разворачивается в пространстве (естественного) языка, и порождающего в своих глубинных, "метафизических" предпосылках, такое равноправие.
го общения дискурсов метафизики, лингвистики, социологии, психологии, etc. Общения, которое разворачивается в пространстве (естественного) языка, и порождающего в своих глубинных, "метафизических" предпосылках, такое равноправие.
3.
Развернутые выше рассуждения о современных парадигмах лингвистики и философии языка, возможно, позволяют более точно осмыслить некоторые черты становящейся в современной культуре эписте-м ы (понимая "эпистему" в качестве доминантной гносеологической ситуации в целом культуры, а не только в науке или искусстве, ср. "парадигмы"). В частности, определенные суждения, характеризующие ее, вполне могут быть перифразированы "в терминах" взаимодействия — сосуществования — пространств языка и мышления, с их сложно соотносящимися, во многом потенциальными границами. Ср. у Н. Бахтина: "строение идейного космоса определяется уже не господством и подчинением, а сосуществованием, простой смежностью противоположных и независимых начал. Но в целом культуры, так же как и в сознании отдельного человека, мирное сожительство противоположных идей возможно только при одном условии: ни одна из этих идей не доросла до подлинной реальности, не стала движущей и повелевающей силой, но все они пребывают в состоянии какой-то абстрактной и волнующей возможности. Это лишь призраки, лишь хрупкие игрушки ленивого или бессильного духа." [Бахтин 1994, 7]. Во многом сходная оценка есть у П.Флоренского: "Совершенство, святость, мудрость, вообще завершенное состояние личности не приемлется людьми нового времени потому, что оно требует себе либо "да, да", либо "нет, нет". Искание истины новый человек предпочитает истине и методологию — достигнутому знанию" [Флоренский 1993, 172]. Отсюда возникает тема безволия, безволия, часто оказывающегося, однако, предметом своеобразного восхищения для тех, кому оно присуще ("Современный че-
ловек полюбил в себе свою слабость, свои колебания, свою немощь и постарался их именно выразить и показать прекрасными" [Гам же]).
. Безволие человека современной культуры, иногда становящегося пассивным наблюдателем бесконечного (даже уходящего в дурную бесконечность — нечто вроде "наблюдения за наблюдающим за наблюдателем") преобразования, "сгибания" пространств мышления (в том числе порожденных самим "наблюдателем") друг в друга, обладает, однако, не только субъективной (субъектной), но и метафизической значимостью. Если, как у Хайдеггера, волевое развертывание бытия сущего можно представить как волю к воле ("воля к воле отрицает любую цель саму по себе и допускает цели лишь как средства для того, чтобы волевым образом переиграть саму себя и создать для этой своей игры сцену действия" [Хайдеггер 1993, 187]), то нельзя ли предположить, что одним из проявлений (пусть даже не ступеней) волевого развертывания бытия человека современной культуры, его "истины желания" становится своего рода воля к безволию? (Говоря это, мы не стремимся последовательно ввести образ-концепт "воля к безволию" в концептуальную систему Хайдеггера.)
С одной стороны, человек, погрузившийся/погруженный в сферу {атмосферу) непрерывного развертывания — отчасти саморазвертывания — языковых пространств (возможных миров), в значительной мере теряет способность к активному, тем более совместному действию ("мы бытийно, вместе с миром ничего не переживаем, мы как бы не живем, существуем без последствий для мира, точнее, как чуждая его часть, во вражде с ним... Отсутствие совместного действия, соприкоснувшейся с бытием воли и есть наша основная болезнь ..." [Яфаров 1993, 10] и т. п.). С другой стороны, в пространствах, прежде всего на границах пространств языка и мышления, человек оказывается в ситуации выбора — выбора между различными возможными мирами, который сам в определенном смысле создает новые возможные миры. Такой выбор часто имеет сугубо личностный характер, однако вряд ли можно сказать, что он реализуется "без последствий" для бытия, поскольку существенно расширяет его пределы, через создание новых миров или принципов их создания. Даже те возможные миры, которые создаются благодаря обнаруже-



 нию новых смыслов у слов, в игре с их сочетаемостью, дают возможность человеку проявить и соотнести свою волю с бытием, возникают в своеобразном волевом усилии ("Включаясь ... в движение словесных машин, прекращая их обезличенную работу, пребывая в движении освобождающейся силы слов, человек осознает себя участником поворота слова, рождения нового смысла" [Яфаров 1994, 7]). Возможно, именно такое "волевое безволие", привнося в мир момент игры (не случайна идея, по которой современное зло можно победить "лишь насмешливым мальчишеством" (Р. Виктюк, см. [Сегодня 1993, № 95]) — как бы несерьезным, намеренно неволевым отношением к миру, которое, однако, может оказываться более результативным, чем если бы было подчеркнуто волевым), уменьшает опасность (если опасность) радикального единообразия мира. У Деррида (vs. Бахтин): "Тё1ё — sans telos. Finalite sans fin, la beaute du diable..." [Derrida 1992,363]*.
нию новых смыслов у слов, в игре с их сочетаемостью, дают возможность человеку проявить и соотнести свою волю с бытием, возникают в своеобразном волевом усилии ("Включаясь ... в движение словесных машин, прекращая их обезличенную работу, пребывая в движении освобождающейся силы слов, человек осознает себя участником поворота слова, рождения нового смысла" [Яфаров 1994, 7]). Возможно, именно такое "волевое безволие", привнося в мир момент игры (не случайна идея, по которой современное зло можно победить "лишь насмешливым мальчишеством" (Р. Виктюк, см. [Сегодня 1993, № 95]) — как бы несерьезным, намеренно неволевым отношением к миру, которое, однако, может оказываться более результативным, чем если бы было подчеркнуто волевым), уменьшает опасность (если опасность) радикального единообразия мира. У Деррида (vs. Бахтин): "Тё1ё — sans telos. Finalite sans fin, la beaute du diable..." [Derrida 1992,363]*.
Такое единообразие порождается дохождением человеческой субъективности до почти максимальной степени развития ("Субъективный эгоизм, для которого ...Я заранее определяется как субъект, может быть сломлен сплочением многих Я в МЫ.
Благодаря этому субъективность только набирает силу. В планетарном империализме технически организованного человека человеческий субъективизм достигает наивысшего заострения, откуда он опустится на плоскость организованного единообразия и будет устраиваться на ней" [Хайдеггер 1993, 61]). Возможно, однако, и иное по своей природе "сплочение" Я, субъективностей, имеющее не прямой, а "монадный" характер. Часто не взаимодействуя непосредственно, образуя свои собственные и во многом самодостаточные космосы, "картины мира", индивиды современной культуры тем не менее участвуют в создании целостной и одновременно во многом противоречивой гармонии мира. Гармонии, установленной (предустановленной) не только ими самими, а некими общими чертами, "причинами" бытия. ("Но это невозможно без существования бесконечного познания и бесконечного могущества..." [Лейбниц 1983,451]).
4.
 Возможные миры, возникающие в развертывании пространств бытия— языка, далеко не всегда обладают "экстатически безумной" природой (у Г.Миллера: "Человек, подносящий бутылку со святой водой к губам; преступник, выставленный на обозрение на базаре; доверчивый простак, обнаруживший, что все трупы воняют; сумасшедший, танцующий с молнией в руке; священник, поднимающий рясу, чтобы на-ссать на мир; фанатик, громящий библиотеки в поисках Слова, — все они соединились во мне, от них моя путаница, мой экстаз" [Миллер 1994, 145]). Выражаясь в духе Р. Барта, игру с возможными мирами не стоит принимать слишком всерьез, — это позволяет ощутить своего рода метафизическое "веселье бытия" (пусть даже 'Thorrible gaiete des bour-reaux" [Deleuze 1986,31]).
Возможные миры, возникающие в развертывании пространств бытия— языка, далеко не всегда обладают "экстатически безумной" природой (у Г.Миллера: "Человек, подносящий бутылку со святой водой к губам; преступник, выставленный на обозрение на базаре; доверчивый простак, обнаруживший, что все трупы воняют; сумасшедший, танцующий с молнией в руке; священник, поднимающий рясу, чтобы на-ссать на мир; фанатик, громящий библиотеки в поисках Слова, — все они соединились во мне, от них моя путаница, мой экстаз" [Миллер 1994, 145]). Выражаясь в духе Р. Барта, игру с возможными мирами не стоит принимать слишком всерьез, — это позволяет ощутить своего рода метафизическое "веселье бытия" (пусть даже 'Thorrible gaiete des bour-reaux" [Deleuze 1986,31]).
В сферу такого веселья-игры, отчасти даже рационализированного, входит и "безумие в речи": «Душевная болезнь не существует, потому что симптом — это неиссякаемый ресурс в речи и "вдоль пути", скорее чем признак болезни. Психотическая речь существует в качестве неудавшегося отрицания объекта» [Вердильоне 1993, 52].
В таком контексте вполне уместно будет упомянуть некоторые черты культуры постмодернизма. Постмодернистское целое обладает изначально парадоксальной природой, образуясь не через операциональные действия с понятиями, а путем координации несопоставимых элементов (в духе "негативной диалектики" Адорно). Нетривиальность этого целого во многом определяется тем, что в постмодерне, хотя он часто трактуется как "соавторство вместо авторства", представлен вполне отчетливый субъектный, личностный аспект. Постмодернистский автор, как бы он ни принижал свою значимость в саморефлективных декларациях (что, впрочем, также достаточно симптоматично — пассивный вряд ли будет стремиться чрезмерно акцентировать свою пассивность), часто оказывается не столько автором отдельного текста, сколько автором картины мцра, картины потенциально открытой, незавершенной, необходимым условием возникновения которой является комбинирование, во многом неожиданное и изысканное, разных фрагментов знания и восприятия мира. Ср.

 136
136
 в этой связи по поводу монтажа в кинематографии: "Фотография, монтаж в фильме объединяют случайные, но документально схваченные кусочки жизни (даже чисто акустические моменты) в качественно новую художественную систему" [Арсланов 1983, 99]).
в этой связи по поводу монтажа в кинематографии: "Фотография, монтаж в фильме объединяют случайные, но документально схваченные кусочки жизни (даже чисто акустические моменты) в качественно новую художественную систему" [Арсланов 1983, 99]).
Автор в постмодерне скорее расширяет — не только в актуально-экстенсиональном, но и потенциальном, связанном с нежесткостью границы между произведением и миром смысле — рамки своего авторства. (Ср., к примеру, суждение Д. Пригова: "Постмодернизм ... принес ситуацию проблематичности личного высказывания — это стало основной осью поведения художника. Пресловутая цитатность только помогала вскрыть эту проблематичность"; цит. по: [Панов 1994, 7]). Он оказывается как бы дирижером, позволяющим вступать в диалог уже существующим (в каком-либо из пространств человеческого познания) и часто очень различным суждениям, оценкам и точкам зрения; более того, это дирижер, который сам, импровизируя, создает партитуру произведения. (В этом смысле можно сказать, что создание неавторитарного дискурса предполагает немалую долю авторитарности,— но скрытой, "глубинной", "превращающей автора в текст").
Впрочем, голос дирижера не звучит (по крайней мере отчетливо не звучит) и в этом случае, хотя личностная, иногда даже подчеркнуто личностная рефлексия автора над текстом ощущается вполне отчетливо (при том, что автор постмодернистского произведения редко отходит слишком далеко от границы между нерефлективным и рефлективным, во всяком случае, в направлении пространства рефлексии; такое отдаление может оказаться опасным для самого произведения).
В постмодерне прослеживаются своего рода автогерменевтические моменты, связанные с реинтерпретацией текстовых составляющих, ориентацией на самоцитирование, моделированием ("технологией") текста, его развертывания во времени. Ср. в этой связи по поводу дирижера в собственном смысле: "Дирижер, будучи для западной музыки высшим типом музыкального исполнителя, не издает при этом ни одного звука. Он концентрирует в себе, интериоризирует и затем проецирует вовне непрерывную пластику и скрытый пульс музыкального процесса. При этом
 звучание, обладая своей автономной упругостью и сопротивляемостью, своей структурностью, находится в постоянной борьбе и парадоксальном единстве с временной пульсационной дирижерской волей" [Аркадьев 1992, 22]. Вообще, постмодернистскому тексту присуще сложное, неустойчивое и часто противоречивое соотношение самоорганизации и организации, вносимой автором, тем более противоречивое, что последний обычно не находится ла первом плане и/или не раскрывает своих интенций в конструировании текста. (Автор "отлучился, оставив вам на руки документ", как у Деррида [Derrida 1992, 366], его путь проходит через пространства "текста-письма" — это уже проблематика "деконструкции логоса",— сопрягаемые в свободной ассоциации).
звучание, обладая своей автономной упругостью и сопротивляемостью, своей структурностью, находится в постоянной борьбе и парадоксальном единстве с временной пульсационной дирижерской волей" [Аркадьев 1992, 22]. Вообще, постмодернистскому тексту присуще сложное, неустойчивое и часто противоречивое соотношение самоорганизации и организации, вносимой автором, тем более противоречивое, что последний обычно не находится ла первом плане и/или не раскрывает своих интенций в конструировании текста. (Автор "отлучился, оставив вам на руки документ", как у Деррида [Derrida 1992, 366], его путь проходит через пространства "текста-письма" — это уже проблематика "деконструкции логоса",— сопрягаемые в свободной ассоциации).
Однако именно скрытость модуса существования автора-дирижера постмодернистского текста, — определяемая его существованием на границах разных фрагментов текста-бытия,— предохраняет текст постмодерна от опасности тривиальной эклектики, механической комбинаторности. Точнее, уменьшает такую опасность, не снимая ее полностью: граница между in-sight'oM, удавшейся попыткой "схватить", высветить, хотя бы под одним углом зрения, новую картину мира и безвкусной комбинаторикой в сфере постмодерна часто зыбка и неустойчива, даже, возможно, обладает способностью "оборачивать", менять местами — в зависимости от социокультурной ситуации — находящееся по разные ее стороны. Во всяком случае вряд ли роль автора-дирижера состоит лишь в сопряжении, организации диалога а priori совершенных суждений, образов и идей. Новые смыслы, относящиеся к новым возможным мирам — тем более смыслы не-рефлектируемые — возникают не только в диалоге (соприкосновении) "совершенных" идей или образов, но и в столкновении яркого и тривиального, в общении мудреца и глупца или посредственности, или даже двух глупцов (с тем большей вероятностью, что "в современном тексте голоса сливаются так, что между ними исчезают любые границы" [Барт 1994,55]).
Путь автора идет через самые разные, часто радикально отличные друг от друга пространства, пространства, где можно встретиться и беседовать с людьми, которым в ином "возможном мире" он не подал бы руки (или которые не подали бы руки ему),



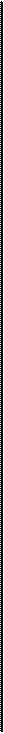
 даже с людьми изначально "лишними", неинтересными (к ним, впрочем, может относиться и сам автор). Поиск собеседников не по критерию их фиксированного (заданного в данном языковом мире) "совершенства", а с точки зрения того, в какой мере соприкосновение фрагментов смысла, принадлежащих разным мирам, позволяет приблизиться к границам нового, "авторского" возможного мира, и войти в него, и порождает присущую постмодерну "граничность" или даже "предельность" смысла, "духовную объединенность" элементов в целостный образ.
даже с людьми изначально "лишними", неинтересными (к ним, впрочем, может относиться и сам автор). Поиск собеседников не по критерию их фиксированного (заданного в данном языковом мире) "совершенства", а с точки зрения того, в какой мере соприкосновение фрагментов смысла, принадлежащих разным мирам, позволяет приблизиться к границам нового, "авторского" возможного мира, и войти в него, и порождает присущую постмодерну "граничность" или даже "предельность" смысла, "духовную объединенность" элементов в целостный образ.
Ориентация на построение такого диалога ("разговора в пути") во многом формирует стиль современного философствования, стиль "гармоничной— стремящейся к гармонии— эклектики" (или даже promiscuity). Более того, она присуща и современной гуманитарной культуре в целом, "мозаичной" по определению (применительно к лингвистике ср., например, [Руденко 1993]).
Мир, заданный на описываемых предпосылках, обладает подчеркнутой способностью к саморазвитию, потенциально бесконечному развертыванию во времени и, возможно, в пространстве (образ точки, концентрирующей в себе все бытие). Здесь вновь можно вернуться к аналогии с дирижером, который интерпретируется как «зримое воплощение времени— энергии как "незвучащего" несущего экспрессивного континуума музыки, некий постоянный свидетель и представитель его бытийной сущности» [Аркадьев 1992, 22]. (Впрочем, такой автор сам становится текстом — автором, которого "можно извлечь из множественности его собственного текста" [Барт 1994, 233]).
В границах (на границах) текста возникает новая метаре-альность организующаяся по собственным (иногда мало зависящим от воли автора) законам. В этой "метареальности" автор — или "делающий собственную ставку в игре" читатель — вступает
 Ср. высказывание одного из современных кинорежиссеров: "У меня иррациональный монтаж, там много необязательных, казалось бы, ненужных вещей, которые и делают картину картиной, приближают ее к явлению природы, если картина получилась" (О. Ковалов — цит. по [Крюкова 1994, 7]).
Ср. высказывание одного из современных кинорежиссеров: "У меня иррациональный монтаж, там много необязательных, казалось бы, ненужных вещей, которые и делают картину картиной, приближают ее к явлению природы, если картина получилась" (О. Ковалов — цит. по [Крюкова 1994, 7]).
в сложный диалог с произведением, ср. "текст-письмо" в смысле Барта. Поэтому постмодернистский текст представляет собой своего рода длящуюся реальность, продолжающийся творческий акт, расширяющий, по крайней мере в потенции, границы мира / языка (используя образ Б. Шульца, это страницы, которые "продолжают себя в процессе чтения, границы их отовсюду открыты для всевозможных флуктуации и перетеканий" (Шульц 1993, 99]). В еще большей мере такие черты присущи феномену гипертекста (гиперлитературы), которая, среди прочего, коренным образом меняет отношения читателя с писателем, превращая их в соавторов, ср. [Генис 1994])).
Уже упоминавшиеся выше идеи Лейбница, относящиеся к "возможным мирам" можно интерпретировать в таком смысле, что состояния всех монад-индивидуальностей в тот или иной момент времени гармонизированы друг с другом и это одновременно и зашифровывает мир на уровне явлений, и разъясняет его на уровне сущности. При таком подходе, в свою очередь, возникают некоторые аналогии с трактовкой реальности как сложной ("сложнейшей") знаковой системы, настолько сложной, что средний носитель реальности не воспринимает ее как знаковую. Иными словами, средний человек, создавая свой "возможный мир", не осознает, что он разными, практически неисчислимыми путями сопрягается с космосом знаков и символов.
В таком случае не является ли причиной (одной из причин) "предустановленной гармонии" космоса природа "пространства" как универсального символа (в смысле Шпенглера; детальнее см. [Руденко 1994]) культуры, порождающего из своей "граничной" сущности развертывание новых пространств мышления и языка, возможных миров с их неоднозначно соотносящимися, переплетающимися, ускользающими от самих себя границами? Это развертывание может уходить в дурную бесконечность, возможные миры, созданные разными Я, могут совпадать, становясь тривиальными и малоинтересными. Однако в целом гармония пространства (пространства языка и бытия) оказывается гармонией границы, границы, в которой, в любой момент бытия, неким уникальным способом совмещается тождественное и различное, сочетающееся и противоречивое, уникальное и банальное. Совмещается в силу того, что пространство— граница ("простран-

 ство — грань бытия", см. [Там же]), существуя между мирами тем самым порождает, "провоцирует" свое собственное "порождающее исчезновение" в потенциально бесконечном развертывании миров. (Интересно, что в сходных концептах может интерпретироваться и свобода, как "способность преобразовывать, претворять, чтобы воссоздавалось нечто, бесконечность произво ^ящее, секретирующее" [Мамардашвили 1994,]
ство — грань бытия", см. [Там же]), существуя между мирами тем самым порождает, "провоцирует" свое собственное "порождающее исчезновение" в потенциально бесконечном развертывании миров. (Интересно, что в сходных концептах может интерпретироваться и свобода, как "способность преобразовывать, претворять, чтобы воссоздавалось нечто, бесконечность произво ^ящее, секретирующее" [Мамардашвили 1994,]
В контексте проблемы "пространства", в том числе "пространства языка", можно увидеть, что "исчезновение человека" в современной культуре компенсируется не столько "возникновением нового человека" (такое утверждение было бы не только преждевременно, но и банально), сколько возникновением радикально новых пространств культуры или, точнее, новых правил, функциональных схем, "ориентации" их возникновения. (Скажем, пространства "деконструкции у власти". "Что, по идее, вроде бы несовместимо с самой деконструкцией" — А. Жолковский.) Впрочем, способность к порождению новых пространств может рассматриваться как одна из важнейших черт человека (личности) вообще (ср. даже: "динамическое пространство, как индивидуализированный творческий импульс, само есть некое качество — "Я", включающее и развивающее из себя сплошной поток отдельных продуктов качества, которые суть как бы отдельные состояния единой личности, сохраняющей свое единство, и питающее единым вечным актом все бесконечное многообразие своих проявлений" [Габричевский 1994, 143]).
В сходном смысле можно говорить (как это делает Ж. Делёз) о рождении — через операцию "сверхсгибания", sur-pli — "сверхчеловека" (формы-Сверхчеловек), когда конечное число составляющих дает практически безграничное разнообразие комбинаций, в том числе комбинаций-языков (см. [Делёз 1994]). Намеченная М.Фуко концептуальная альтернатива ("Обретение вновь в едином пространстве великой игры языка могло бы равно свидетельствовать и о решительном повороте к совершенно новой форме мысли и о замыкании на себе самом модуса знания, унаследованного от предшествующего века" [Фуко 1977, 396-397]), очевидно, тяготеет к первому варианту своего разрешения.
*
Создается впечатление, что черты новой парадигмы, становящейся в современной философии, в том числе в философии языка, в отчетливой мере присущи и некоей новой парадигме — эпистеме — современной культуры. На первый план в ней выходит взаимодействие-игра (отчасти осознаваемое социумом* ) возникших или созданных в языке или через язык возможных миров: Игра, в которой не предполагается жесткое, тем более априорное, доминирование какого-либо из языковых пространств, превращение его в "наилучшее", наиболее гармоничное. Гармония мира современной культуры достигается скорее через комбинирование, диалог, разногласие множества языковых "возможных миров". Это то совершенство мира, которое состоит прежде всего в процессе его совершенствования.
Литература
Аркадьев 1992 — Аркадьев М. А. Временные структуры новоевропейской музыки. М., 1992.
Арсланов 1983 — Арсланов В. Г. Миф о смерти искусства: эстетические идеи Франкфуртской школы от Беньямина до "новых левых". М., 1983.
Барт 1994— Барт P. S/Z / Пер. с фр. М., 1994.
Бахтин 1994— Бахтин Н. Современность и фанатизм // Независимая газета. 1994. № 54.
Бибихин 1993 — Бибихин В. В. Язык философии. М., 1993.
Вердильоне 1993 — Вердильоне А. Мое ремесло: Свидетельство психоаналитика / Пер. с ит. СПб., 1993.
Витгенштейн 1985 — Витгенштейн Л. Философские исследования / Пер. с англ. // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. XVI.
 * Ср. у Р. Барта о средневековом обществе, способном "ощутить языковую природу мира" [Барт 1994, 174].
* Ср. у Р. Барта о средневековом обществе, способном "ощутить языковую природу мира" [Барт 1994, 174].



 Габричевский 1994 — Габричевский А. Г. Пространство и время // Вопросы философии. 1994. № 3.
Габричевский 1994 — Габричевский А. Г. Пространство и время // Вопросы философии. 1994. № 3.
Генис 1994 — Генис А. Гипертекст — машина реальности // Иностранная литература. 1994. №5.
Делёз 1994 — Делёз Ж. О смерти человека и о сверхчеловеке / Пер. с фр. // Философия языка: в границах и вне границ. Харьков, 1994. Т. 2.
Крюкова 1994—Крюкова А. Сады скорпиона на острове мертвых//Независимая газета. 1994. № 105.
Левин 1990 — Левин С. Прагматическое отклонение высказывания/Пер, с англ. //Теория метафоры. Mt> 1990-
Лейбниц 1983— Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разумении автора системы предустановленной гармонии // Лейбниц Г. Соч. в 4 тт. М., 1983. Т. 2.
Мамардашвили 1994 — Мамардашвили М. К. К пространственно-временной феноменологии событий знания // Вопросы философий. 1994-№ 1.
Миллер 1994— Миллер Г. Тропик Козерога. Тропик Рака / Пер. с англ. СПб., 1994.
Михайлов 1993 — Михайлов А. Вместо введения // Хайдег-гер М. Работы и размышления разных лет / Пер. с нем. М., 1993.
Панов 1994 — Панов А. "Я — представитель размытой зоны", — говорит Дмитрий Александрович (Пригов) // Независимая газета. 1994. № 30.
Руденко 1993 — Руденко Д. И. С. Мегентесов: постмодернизм в лингвистике // Мегентесов С. А. Семантический перенос в когнитивно-функциональной парадигме. Краснодар, 1993.
Руденко 1994— Руденко Д. Пространство: грань бытия // Философия языка: в границах и вне границ. Харьков, 1994. Т. 2.
Серио 1993— Серио П. О языке власти: критический анализ / Пер. с фр. // Философия языка: в границах и вне границ. Харьков, 1993. Т. 1.
Серио 1994 — Серио П. Троицын день в науке, или импровизированная философия языка / Пер. с фр. // Философия языка: в границах и вне границ. Харьков, 1994. Т. 2.
Степанов 1985 — Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. М., 1985.
Степанов 1994 — Степанов Ю. С. Пространства и миры — "новый", "воображаемый", "ментальный" и прочие // Философия языка: в границах и вне границ. Харьков, 1994. Т 2.
Флоренский 1993 — Флоренский П. А. Анализ пространства и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993.
Фрагменты... 1989— Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. Ч. I.
Фуко 1977 — Фуко М. Слова и вещи / Пер. с фр. М., 1977.
Хайдеггер 1993 — Хайдеггер М. Время и бытие / Пер. с нем. М., 1993.
Шульц 1993 — Шульц Б. Коричные лавки. Санатория под клепсидрой / Пер. с польск. М., 1993.
Яфаров 1993 — Яфаров М. Посмотрим, как выглядит день //Сегодня. 1993. №97.
Яфаров 1994 — Яфаров М. Сила чистоты. Даниил Хармс // Независимая газета. 1994. № 20.
,' Deleuze 1986 — Deleuze G. Foucault. Paris, 1986.
Derrida 1992 — Derrida J. La carte postale de Socrate a Freud et au-dela. Paris, 1992.

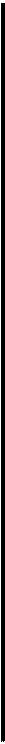
 Е. С. Кубрякова
Е. С. Кубрякова
Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 314; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |