
КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
П. О понятии парадигмы научного знания
Примечательной особенностью современной теоретической лингвистики является ее ярко выраженный интерес к метаг лингвистическим построениям и, в частности, к созданию такого аппарата терминов и понятий, которые помогли бы адекватно отразить ее собственную историю и ситуацию, сложившуюся к сегодняшнему дню. Стремление понять то место, которое занимает лингвистика среди других наук, стремление охарактеризовать ту роль, которую играют современные научные концепции о языке в общей цепи поступательного движения лингвистики, — все это ведет к попыткам осознать, в каком направлении идет преобразование бытующих в ней идей и определить более точно цели и задачи самих лингвистических исследований, вырабатывая для этого новые подходы к описанию и объяснению языковых явлений. Размышления о прошлом науки и ее настоящем статусе призваны сегодня отразить не только историю науки и приоритеты в постановке и решении тех или иных проблем, — они мотивированы прежде всего убеждением в необходимости использовать эти данные для лучшего программирования исследовательских направлений, для установления того, какой должна быть теоретическая лингвистика (ср.(Демьянков 1989, 12]. Осознание ее опыта требует тоже новых методологических установок и новых понятий.


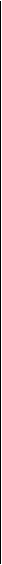


 В 70-е и 80-е гг. ученым, работающим в области теоретической лингвистики, становится особенно ясным радикальный характер потрясающих ее перемен, и рефлексия над путями развития науки оказывается сопряженной с интенсивной деятельностью по анализу и оценке выдвигаемых теорий, по определению вклада отдельных школ и отдельных ученых в исследование языка. Как и в других науках, пристальное внимание привлекает к себе сама трансформация общих представлений о сути изучаемых объектов, причины и условия появления новых взглядов на объект. Большое распространение получают в этой связи те концепты, которые помогают осветить исторические судьбы конкретной науки, диалектику их развития, основные периоды в эволюции научного знания, его истоки. Возникают вопросы о том, как наиболее целесообразно — по именам, по школам, по идеям — рассматривать положение дел. Ответы на эти вопросы начинают связываться все более часто с понятием парадигмы научного знания, которой надлежит выполнить как бы двойную функцию: с одной стороны, отражая оригинальность и своеобразие взглядов определенного направления или школы, а, с другой, способствуя периодизации истории науки при смене одной парадигмы знания на другую в ходе научной революции.
В 70-е и 80-е гг. ученым, работающим в области теоретической лингвистики, становится особенно ясным радикальный характер потрясающих ее перемен, и рефлексия над путями развития науки оказывается сопряженной с интенсивной деятельностью по анализу и оценке выдвигаемых теорий, по определению вклада отдельных школ и отдельных ученых в исследование языка. Как и в других науках, пристальное внимание привлекает к себе сама трансформация общих представлений о сути изучаемых объектов, причины и условия появления новых взглядов на объект. Большое распространение получают в этой связи те концепты, которые помогают осветить исторические судьбы конкретной науки, диалектику их развития, основные периоды в эволюции научного знания, его истоки. Возникают вопросы о том, как наиболее целесообразно — по именам, по школам, по идеям — рассматривать положение дел. Ответы на эти вопросы начинают связываться все более часто с понятием парадигмы научного знания, которой надлежит выполнить как бы двойную функцию: с одной стороны, отражая оригинальность и своеобразие взглядов определенного направления или школы, а, с другой, способствуя периодизации истории науки при смене одной парадигмы знания на другую в ходе научной революции.
Введенное впервые в начале 60-х гг. Т. Куном понятие парадигмы было связано с его стремлением подчеркнуть важность коренной ломки бытующих в науке и устаревающих представлений, продемонстрировать причины и условия подобных изменений, охарактеризовать грандиозные последствия таких изменений, происходящих в виде научной революции и связанных в конечном счете с резким непризнанием прежнего набора знаний и решений — прежней научной парадигмы. Изучая структуру научных революций, Т. Кун как бы отказывался от идеи простого одномоментного скачка в системе взглядов и подошел к анализу сложных факторов, приводящих к научной революции как сменяющей плавное и постепенное накопление данных, а, главное, преобразующей исходные допущения науки. В намерения Т. Куна входило также описать черты "нормальной" или "зрелой" науки, формированию которой предшествует некий предпа-радигмальный период развития, нарушаемый именно научной революцией, выдвигающей новую парадигму знания, которая по
протяжении определенного периода тоже будет революционно преобразована в новую.
В фокусе внимания Т. Куна находились закономерности развития естественных наук: радикальные сдвиги в системах господствующих взглядов он иллюстрировал примерами из физики и химии, механики и биологии, в которых стимулами революций являлись прежде всего новые научные открытия. Уже это предопределило общий вывод Куна о том, что эти науки "развиваются не таким образом, как другая любая область культуры" [Кун 1977, 272]. Однако очень многими учеными монография Куна была воспринята как общеметодологическая, поэтому ее появление вызвало к жизни множество публикаций, связанных с уточнением, а нередко и критикой предлагаемых им основ научной историографии. Всестороннее рассмотрение получили, например, связанные с его книгой вопросы получения знаний и его роста, но, конечно, основной поток литературы относился именно к освещению проблем научных революций и парадигм научного знания (см., например, [Швырев 1988]). Для нас особый интерес представляет тот факт, что идеи Куна были очень скоро использованы для того, чтобы прояснить историю лингвистики и усовершенствовать ее периодизацию, чтобы представить ход ее эволюции в виде смен главных ее парадигм (сравнительно-исторической, а затем структурной), а саму смену рассмотреть как научную революцию. Одна из первых удачных попыток такого рода принадлежала Э. А. Макаеву (см. [Макаев 1977].
Но отношение к выдвинутым Куном методологическим понятиям в лингвистике не было однозначным. Как и в других науках, одобрение одних сталкивалось с резким неприятием его мнений у других ученых и хотя рассмотрение всех этих взглядов явно выходит за пределы настоящей работы, общее представление о тех аргументах, которые приводились в защиту понятий, или, напротив, доказывали их неприменимость, кажется нам далеко не бесполезным. Да и уточнения и, возможно, развития понятия парадигмы научного знания можно ожидать только после того, как все его положительные и спорные стороны будут выявлены и подвергнуты специальному анализу.
"Под парадигмами, — писал Т. Кун, — я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в течение опре-






 деленного времени дают научному сообществу модель постанов-: ки проблем и их решений" (Кун 1977, 11]. Очевидно, что подобное определение открывало широкий простор для разных его интерпретаций, что учел впоследствии и сам Кун, предлагая заменить понятие парадигмы понятием дисциплинарной матрицы и в то же время внося коррективы в понятие парадигмы и учитывая многие возражения, которые были выдвинуты против него (см. (Кун 1977, 229 и сл.]).
деленного времени дают научному сообществу модель постанов-: ки проблем и их решений" (Кун 1977, 11]. Очевидно, что подобное определение открывало широкий простор для разных его интерпретаций, что учел впоследствии и сам Кун, предлагая заменить понятие парадигмы понятием дисциплинарной матрицы и в то же время внося коррективы в понятие парадигмы и учитывая многие возражения, которые были выдвинуты против него (см. (Кун 1977, 229 и сл.]).
Бурные дискуссии по поводу понятия парадигмы в лингвистике и антропологии начались, по всей видимости, специальными симпозиумами 1964 и 1966 гг. и первые реакции лингвистов были скорее отрицательными: немало ученых утверждали, что понятие парадигмы научного знания в лингвистике вообще неприемлемо и не может адекватно охарактеризовать специфику роста в сфере гуманитарного знания (ср. [Коегпег 1983 а, 1213; 1983 6; Banner 1983, 847]). С развернутой аргументацией против применения указанного понятия выступил в середине 70-х гг. К. Персиваль [Percival 1974], а в конце 70-х Ю. С. Степанов подчеркивает, что единственное, что можно заимствовать у Т. Куна—это сам термин "парадигма" [Степанов 1980, 112]. Но полемика вокруг куновских идей не прекращалась: в американской лингвистике все большее распространение получает понятие генеративной парадигмы знания и хомскианской революции как знаменующей ее появление на мировой арене. С момента введения этих терминов Дж. Серлем и Ф. Ньюмейером (см. (Newmeyer 1986; 1989] они приобретают значительную популярность: ведь генеративистам импонировала мысль о том, что они совершили целый переворот в лингвистике и психологии и начали новый период в ее развитии. Вопросом первостепенной важности для историографов и методологов лингвистической науки становится, действительно, вопрос о том, имела ли место в истории хомски-анская революция и даже о том, сколько революций может вынести один лингвист на плечах, как остроумно замечает А. Хилл [Hill 1980, цит. по Коегпег 1983, 879]. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос (см. также [Winograd 1983]), необходимо рассмотреть саму генеративную грамматику и сравнить ее с предшествующим периодом, т. е. проанализировать, в чем именно заключался резкий разрыв с дескриптивизмом, и можно ли описать
его сущность, квалифицируя его как переход от одной парадигмы знания к принципиально отличной. В свою очередь, для того, чтобы совершить это, надо рассмотреть, какое содержание вкладывается нами в понятие парадигмы, т. е. отразить сущностные характеристики самого понятия парадигмы. Разделяя в общем ту высокую оценку, которую дает куновскому понятию В. С. Швы-рев, а также соглашаясь с тем, что именно многоплановость этого понятия сослужила ему добрую службу, мы исходим из того, что "реалия, выделенная и зафиксированная в книге, должна была быть подвергнута более тщательному анализу" (Швырев 1988, 54). Думается, что подобный анализ целесообразно осуществить на материале истории одной науки и даже уже: выбрав в качестве материала развитие знания о языке во второй половине XX века и останавливаясь подробно на роли и теоретических основаниях того направления в этом развитии, которое получило название "генеративной (порождающей) грамматики" и которое, на наш взгляд, заслуживает вполне, чтобы его считали представляющим особую парадигму научного (лингвистического) знания. Нет, наверно, при этом необходимости специально подчёркивать тот факт, что подобно целому ряду ученых мы полагаем, что понятие парадигмы чисто интуитивно представляется вполне разумным и что его можно использовать для демонстрации развития научных идей в лингвистике, хотя, несомненно, и в модифицированном виде и что, наконец, полностью отвергать его кажется нецелесообразным (ср. [Руденко, 1990, 263]).
По мнению В. Банера, в лингвистике всегда наряду с доминирующим, господствующим направлением существовали и другие, более или менее противопоставленные друг другу школы. Такое положение дел не означает, по его мнению, что лингвистика не достигла статуса зрелой науки, и, что, следовательно, понятие парадигмы не может отразить своеобразия эволюции лингвистических идей и более приемлем здесь термин "течение" [Banner 1983]. В принципе, однако, признание одновременного существования нескольких течений или школ не означает, что они не могут иметь общих точек соприкосновения и, таким образом, по Куну, развиваться в пределах одной и той же парадигмы: примером такого положения дел мог бы служить структурализм, который, как хорошо известно, был представлен на разных континен-






 тах и в разных странах своими собственными школами. К тому же понятие течения кажется лишенным терминологической определенности, и он может быть использован, на наш взгляд, лишь в развернутых "аналитических дескрипциях". Присоединяясь к критической оценке куновских взглядов, данной К. Персивалем, Банер полагал в то же время, что мысли Куна об общественном, психологическом и социальном климате научной парадигмы заслуживают серьезного отношения и нуждаются в дальнейшем развитии.
тах и в разных странах своими собственными школами. К тому же понятие течения кажется лишенным терминологической определенности, и он может быть использован, на наш взгляд, лишь в развернутых "аналитических дескрипциях". Присоединяясь к критической оценке куновских взглядов, данной К. Персивалем, Банер полагал в то же время, что мысли Куна об общественном, психологическом и социальном климате научной парадигмы заслуживают серьезного отношения и нуждаются в дальнейшем развитии.
По мнению крупнейшего специалиста в области лингвистической историографии К. Кернера, анализ Персиваля лишен должной глубины, а потому к обсуждению понятия парадигмы имеет смысл вернуться еще раз [Коегпег 1983, 877 и 1214]: в лингвистике понятие научной революции и парадигмы нашли широкий отклик и не могут остаться без внимания.
Резкое неприятие понятия парадигмы знания характеризует последнюю монографию Р. де Богранда, посвященную истории лингвистических учений в XX веке [Beaugrande 1991]. Согласно его мнению, это понятие скрывает подлинную сложность и даже противоречивость не только во взглядах ученых одной школы, но даже во взглядах одного и того же лингвиста. Оно огрубляет общие представления о ходе развития идей, ибо заставляет искусственно выводить единые линии развития там, где их нет. В существующих исторических обзорах из литературы по вопросу выбирают лишь те мнения, которые служат подтверждению какой-либо идеи, остальные же мнения просто не принимаются во внимание. Вследствие такой подгонки цитат само существование единой парадигмы знания оказывается своего рода научной фикцией [там же, 343 и cл.]. Ошибочным он считает и мнение о том, что историю лингвистики можно представить как цепь беспрестанно происходящих научных революций: здесь, напротив, все время возвращаются к обсуждению одних и тех же проблем, в силу чего нередко можно утверждать, что лингвистика топчется на месте. Во всяком случае, здесь сильна власть традиций и преемственности. Несмотря на нигилистическое отношение к куновским идеям, влияние их в книге все же ощутимо, а основные направления, выделяемые Бограндом,— компаративное, структуральное, генеративное и т. п. — равносильны тем, кото-
рые у других ученых рассматриваются как отдельные парадигмы знания.
Сильной стороной концепции самого Р. де Богранда, важной для нас по причинам методологического порядка, является сам принцип рассмотрения истории лингвистики по дискурсивным построениям отдельных выдающихся лингвистов, т. е. по цитируемым обильно текстам этих ученых, что призвано продемонстрировать развитие идей, их постоянные модификации и уточнения в разных трудах и разных пассажах одних и тех же авторов. Очевидно, однако, что сообразуясь с такой динамической точкой зрения на происходящее, можно подойти так же и к понятию парадигмы знания: возможно, что в становлении парадигмы действуют разные факторы, возможно тоже, что отдельные ее звенья (о них мы подробно расскажем ниже) принимают свой окончательный вид после ряда изменений и, наконец, что и парадигма в целом испытывает разные трансформаций вплоть до того момента, когда новая революция полностью подрывает ее устои. Думается, что прав Богранд и тогда, когда подчеркивает, что все теоретические положения отдельных лингвистов должны пониматься и интерпретироваться в контексте своего времени и в зависимости от общих установок и целей исследователя. Но ведь это же может быть отнесено и к пониманию концептов парадигмы и научной революции у Т. Куна.
В контексте всей книги Куна становится, однако, ясным, что у каждого из названных понятий есть как бы своя собственная цель. В тех случаях, когда Кун рассуждает о принципах роста научного знания, об особенностях формирования нового знания, ему очень важно подчеркнуть роль научных революций как выхода из кризиса, как необходимого этапа в преодолении чисто кумулятивного накопления сведений об объекте; его рассуждения носят явно антикумулятивный характер, и с этим можно согласиться. В тех же случаях, когда ему нужно описать развитие в пределах уже сложившейся "нормальной" науки, он подчеркивает существование некой единой системы убеждений и ценностей, характеризующей деятельность научного сообщества, объединенного общими представлениями, научным инструментарием, даже набором правил, которым в пределах заданной парадигмы надлежит строго следовать, понимая их набор как "образец" и в
6 — 2853
 то же время — гештальт. В описании этой ситуации Куну как бы становится необходимым тот научный эталон, по отношению к которому знание может быть оценено как традиционное или же, наоборот, как новаторское, содержащее зародыш наступающей революции. И то и другое представляется нам заслуживающим серьезного внимания и вполне пригодным для характеристики развития науки о языке.
то же время — гештальт. В описании этой ситуации Куну как бы становится необходимым тот научный эталон, по отношению к которому знание может быть оценено как традиционное или же, наоборот, как новаторское, содержащее зародыш наступающей революции. И то и другое представляется нам заслуживающим серьезного внимания и вполне пригодным для характеристики развития науки о языке.
В контексте рассуждений о научных революциях Т. Куну кажется важным подчеркнуть, что революции в науке бывают большими и малыми, что они могут затронуть "только членов узкой профессиональной подгруппы" и что далеко не ясно, как они могут возникать [Кун 1977, 76]. Ему также важно осознать, что "развитие науки идет не путем плавного наращивания новых знаний на старые, а через периодическую трансформацию и смену ведущих представлений, то есть через периодически происходящие научные революции" (см. [Микулинский, Маркова 1977, 279]. Но вряд ли переход от традиционного описательного исторического языкознания к структурализму можно охарактеризовать как такое плавное наращивание, уже не говоря о переходе от структурализма к генеративизму. И здесь дело не в неких релятивистских скачках, а в выдвижении таких идей, которые действительно преобразуют облик науки и ее главные установки.
Но, собственно, против мысли о двух типах познавательной деятельности — революционном и эволюционном — не возражают и другие методологи науки (см., например, Поппер 1983). К тому же сама историческая ситуация второй половины XX века с ее лавинообразным накоплением информации и резким преобразованием типа и способа ее обработки— все это требовало нетривиальных оценок происходящего, а, значит, и нетрадиционного, антикумулятивного подхода. Подобная позиция, на наш взгляд, должна быть поддержана. Другое дело, что и у нее могут выявиться слабые стороны при рассмотрении проблемы преемственности знаний. Странно было бы, например, полагать, что в лингвистике как науке гуманитарной наращивания знаний вообще не существует и что новые знания опровергают старые (подобная ситуация в теоретической физике решается главным образом за счет признания старых сведений как бы частным случаем более общих). Конечно, следует согласиться и с
тем, что понятие новых данных в лингвистике отлично от того, что подразумевается в естественных науках — здесь чаще говорят об открытиях и т. п. И все же требуют известных оговорок слова о том, что "во всяком случае в ряде ситуаций развитие лин-гвофилософских парадигм детерминируется не столько обнаружением принципиально новых реальностей, тем более — категорий, сколько выявлением возможностей новых интерпретаций в принципе уже известных фактов" [Руденко 1990, 261-262]. В лингвистике "новой реальностью" становится сама новая интерпретация фактов! С другой стороны, даже если речь идет только о новых онтологических реальностях, то и здесь следует, наверно, признать, что вовлечение в лингвистический анализ ранее не изученных и, в частности, экзотических языков, соответствует обнаружению новых явлений, а это, в свою очередь, заставляет пересматривать складывающиеся концепции.
Вопреки привычным утверждениям о том, что объект, якобы, не зависит от факта существования теории, описывающей этот объект, а теория объекта — не зависит от деятельности исследователя с объектом, есть все основания полагать, что в гуманитарных науках статус существования выделяемого объекта может определяться теорией данного объекта, причем теория о нем может быть частично продуктом деятельности с ним [Фрумкина 1980, 214-216]. В таком случае можно утверждать, что новые подходы в современной лингвистике тоже приводят к обнаружению новых реальностей, и в этом смысле последние близки "открытиям" в естественных науках. Примером может служить новая классификация глаголов, полученная в теории речевых актов: так, одно только выделение перформативов способствовало новому пониманию семантики ассертивных утверждений, точно так же как выделение директивов — уточнению и расширению категорий повелительного наклонения и т. п. Объекты, увиденные в новом ракурсе, выявляют новые свойства; наука получает в свое распоряжение новые факты. Об ингерентных связях нового материала с новыми теориями и новыми подходами в лингвистике свидетельствуют и исторические условия возникновения сравнительно-исторического языкознания в отличие, например, от дескриптивного направления.
б*


 Именно в лингвистике, где опора на накопленные в ней эмпирические данные особенно важна, велика и опасность полагать, что здесь господствует один индуктивный подход и что лишь факты диктуют определенный способ их представления. Большой заслугой Н. Хомского является то, что он внес новую струю в давний философский диспут о соотношении эмпиризма и рационализма в процессах познания и отстаивал необходимость дедуктивно-гипотетического подхода в лингвистике (см.. подробнее [Жоль 1990,174 и сл.]; настоящий раздел, с. 24 и сл.).
Именно в лингвистике, где опора на накопленные в ней эмпирические данные особенно важна, велика и опасность полагать, что здесь господствует один индуктивный подход и что лишь факты диктуют определенный способ их представления. Большой заслугой Н. Хомского является то, что он внес новую струю в давний философский диспут о соотношении эмпиризма и рационализма в процессах познания и отстаивал необходимость дедуктивно-гипотетического подхода в лингвистике (см.. подробнее [Жоль 1990,174 и сл.]; настоящий раздел, с. 24 и сл.).
Завершая рассмотрение понятия научной революции' у Т. Куна, хочется еще раз отметить, что основные возражения против его применения в лингвистике были связаны в основном с отрицанием существования в языкознании резких "парадигм разрыва" (ср. [Серио 1993; Степанов 1980, 111 — 112]), т. е. с общей оценкой фактора преемственности в истории этой науки. Но как правильно указал Р. де Богранд, учет традиций прошлого здесь принимает весьма неожиданные формы: возвращение к предшественникам не бывает признанием непосредственных предтеч новой концепции, а приобретает вид "прыжков к предкам" — ancestor-hopping, т. е. перескока на большую историческую глубину [Beaugrande 1991, 344]. Иначе говоря, линия развития лингвистики довольно сложна — отвергая своих непосредственных предшественников, ученые используют в то же время гораздо более ранние источники, благодаря чему "парадигмы разрыва" характеризуют прежде всего смену смежных поколений, но они существуют, и их наличие нельзя не признать (ср. [Winograd 1983, 8]. В этом смысле можно полагать, что у каждой парадигмы есть своя история и что прослеживаемая общая линия развития каких-либо идей имеет не просто точки, но целые периоды разрыва и забвения предшествующих традиций.
В качестве примера "перескоков" во временной последовательности можно привести примеры обращения Р. Якобсона к идеям Ч. Пирса и Ч. Морриса, Н. Хомского — к картезианской школе, современной филологии — к идеям герменевтики и т. п.
В целом можно поэтому утверждать, что история лингвистики демонстрирует разные типы развития и процесса возникновения знаний и что она не может служить мотивом отказа от понятия парадигмы, призванного охарактеризовать и трансфор-
мацию взглядов, и их преемственность — в зависимости от принимаемой точки отсчета и, что особенно важно, точки зрения, о которой так ясно говорит Ю. С. Степанов, выдвигая понятие "стиля мышления" и уточняя само понятие парадигмы (ср. [Серио 1993, 37; Степанов, Проскурин 1993, 15; Степанов 1985; Швырев 1988, 52 и сл.]). В итоге понятие парадигмы знания представляется нам удобным способом выделить некие концептуальные единые моменты за внешним разнообразием подходов, средством обнаружить сходство "на глубине", прочертить основные линии развития науки в рассматриваемый период и выделить главные тенденции в ее поступательном движении. Это понятие диктует необходимость определить ключевые концепты определенных эпох и отличить эволюционные периоды от революционных, охарактеризовать природу новаторских идей. Ведь одно только кумулятивное понимание роста науки никак не может объяснить появления "фундаментальных гипотез, вступающих в противоречие со сложившимися в науке понятиями, представлениями и даже целыми системами знания и приводящих к научным революциям" [Постовалова 1980, 57]. Понятие парадигмы обязует также рассмотреть более конкретно причины наступающей ревизии концепций. Ведь, по Куну, существенным аспектом зарождения новой парадигмы знания оказывается ее психологическая привлекательность. Создается она благодаря тому, что появление новой парадигмы приносит с собой надежду на выход из тупика и кризисного состояния — это помогает преодолеть ощущение, что прежние пути анализа исчерпаны и уже не приносят никаких результатов. Именно в этом смысле Т. Кун говорит о том, что "в каждом случае новая теория возникла только после резко выраженных неудач в деятельности по нормальному решению проблем" [Кун 1977, 107], или о том, что в моменты формирования новой парадигмы усиленно ощущается недоверие к прежним [Там же, 110]. Он правильно отмечает: "что-то должно заставить по крайней мере нескольких ученых почувствовать, что новый путь избран правильно" [Там же, 207 — 208].
Важным компонентом в понятии парадигмы мы считаем в связи со сказанным представление о ее направляющей роли. Дело заключается не в том, что новая парадигма знания сразу же предлагает новые решения ставящим в тупик проблемам, — она опре-
 166
166
 деляет скорее перспективные пути анализа, связанные с виденьем объекта в ином по сравнению с прошлым ракурсе. В такой ситуации, — пишет Кун, — "требуется выбор между альтернативными способами научного исследования, причем в таких обстоятельствах, когда решение должно опираться больше на перспективы в будущем, чем на прошлые достижения" [Кун 1977, 207].
деляет скорее перспективные пути анализа, связанные с виденьем объекта в ином по сравнению с прошлым ракурсе. В такой ситуации, — пишет Кун, — "требуется выбор между альтернативными способами научного исследования, причем в таких обстоятельствах, когда решение должно опираться больше на перспективы в будущем, чем на прошлые достижения" [Кун 1977, 207].
Методологически мы считаем существенным также, что возникновение новой парадигмы знания связано с формированием иного "третьего мира", т. е. мира объективного знания, данного каждому члену научного сообщества. Ведь принятие постулатов определенной парадигмы и следование ее предписаниям означает для отдельно взятого ученого возможность согласиться с целым рядом теоретических допущений об объекте и его свойствах без особых доказательств, т. е. принимая их на веру. Тогда "ему не приходится в своей работе перестраивать всю область заново, начиная с исходных принципов, и оправдывать введение каждого нового понятия" [Кун 1977, 40]. Кун остается верным попперианцем, утверждая, что третий мир с его постулатами (что, на наш взгляд, составляет особое звено парадигмы) рассматривается затем "как основа для его дальнейшей практической деятельности" [Гам же, 28]. Используя мысли Г.-Г. Гадамера, мы считаем необходимым выделить в понятии парадигмы звено ее "предпосылочного знания", систему ее исходных допущений. В связи с этим кажется важным подчеркнуть и другое— именно лингвисту, использование термина "парадигма" для которого вполне естественно, понятно и стремление в ситуации его широкого использования придать этому термину более определенный и конкретный характер. В частности, концептуальное основание у этого термина сводится не столько к понятию образца, сколько к понятию особого объединения единиц, существующего за счет наличия у каждой парадигмы определенного числа позиций (слотов) и семантической этикетки каждой позиции (см. [Кубрякова, Соболева 1979]). Выполняя это требование, мы и предлагаем вполне в духе куновских идей охарактеризовать понятие парадигмы не только в довольно расплывчатом общем виде, но и представить более конкретно ее составляющие — ее главные "позиции", образующие ее компоненты.
 Рассмотрев существующие определения парадигмы и приведя мнения о ее сущности в работах Ю. С. Степанова и 3. Вансика, Д. И. Руденко пишет: "Парадигма, определяемая в расширительном смысле, трактуется ... как доминирующий исследовательский подход к языку, познавательная перспектива, методологическая ориентация, широкое научное течение (модель), даже научный "климат мнения" [Руденко 1990, 19]. Но чтобы быть всем этим, парадигма должна удовлетворять более строгим требованиям: эти требования относятся прежде всего к ее собственной архитектонике. Чтобы отвечать представлению об упорядоченном объединении составляющих, понятие парадигмы дрлжно, на наш взгляд, включать три следующих звена:
Рассмотрев существующие определения парадигмы и приведя мнения о ее сущности в работах Ю. С. Степанова и 3. Вансика, Д. И. Руденко пишет: "Парадигма, определяемая в расширительном смысле, трактуется ... как доминирующий исследовательский подход к языку, познавательная перспектива, методологическая ориентация, широкое научное течение (модель), даже научный "климат мнения" [Руденко 1990, 19]. Но чтобы быть всем этим, парадигма должна удовлетворять более строгим требованиям: эти требования относятся прежде всего к ее собственной архитектонике. Чтобы отвечать представлению об упорядоченном объединении составляющих, понятие парадигмы дрлжно, на наш взгляд, включать три следующих звена:
— установочно-предпосылочное,
— предметно-познавательное,
— процедурное, или "техническое".
Напомним, что и Т. Кун, считая возможным замену понятия парадигмы на понятие дисциплинарной матрицы, имплицировал этим самым наличие у них определенных "клеток", или же компонентов, частей. Охарактеризуем теперь эти составляющие более подробно.
В определении установок лингвистического исследования могут наблюдаться расхождения в: а) признании (+ / —) связи лингвистики с другими науками (т. е. другими словами, ее рассмотрение в качестве автономной/ неавтономной науки); б) в случае признания определенной связи — выборе той "высокой" науки, под эгидой которой она должна изучаться (ср. например, выбор между семиотикой, когнитивной психологией или же когнитивной наукой в целом); в) ограничении (+ / -) сферы интересов лингвистики внешней или внутреннй лингвистикой, а, следовательно, установки на такое изучение языковых единиц, при котором приветствуется или же запрещается выход в контекстные условия употребления единиц или же вовлечение в лингвистический анализ интенций говорящего/слушающего.
С определением установок лингвистического исследования тесно связано и понимание уже имеющихся сведений о языке, т. е. осознанное следование определенным предпосылкам анализа, которые нередко выступают в виде системы предпосылочного


 168
168
 знания или же системы исходных допущений. По мысли Г.-Г. Га-дамера, всякое понимание требует определенного пред-понимания (см. [Гадамер'1991]), а потому не может быть беспредпосы-лочным. Каждый ученый живет и работает в определенной общественной и культурной среде, он зависит от законов своего времени и, что не менее важно, от параметра "пространства": как указывает П. Серио, "в лингвистике играет роль то, где развивается та или иная концепция: как история самих концепций, так и системы их противопоставлений другим концепциям не одни и те же повсюду, они зависят от страны или, точнее, от той или иной культурной традиции" [Серио 1993, 38]. Так, одно дело рассматривать, как мы постараемся показать ниже, генеративизм на фоне американского дескриптивизма (тогда его разрыв с американской же традицией достаточно очевиден), а другое— на фоне других европейских традиций (ср. [Кубрякова 1994]). Точно такая же зависимость проявляется и в реализации, казалось бы, общих установок — например, когнитивизма и т. п. В сочетании с установками предпосылочные части парадигмы дают отчетливое представление о целях и задачах теоретической лингвистики для данного научного сообщества, и уже на этом основании можно судить об общей ориентации парадигмы на описание языка или объяснение, на статические или же динамические свойства изучаемых объектов и т. д. В силу сказанного ясно, что установочно-предпосылочная часть научной парадигмы органично связана и с таким следующим звеном парадигмы, как ее предметно-познавательная часть.
знания или же системы исходных допущений. По мысли Г.-Г. Га-дамера, всякое понимание требует определенного пред-понимания (см. [Гадамер'1991]), а потому не может быть беспредпосы-лочным. Каждый ученый живет и работает в определенной общественной и культурной среде, он зависит от законов своего времени и, что не менее важно, от параметра "пространства": как указывает П. Серио, "в лингвистике играет роль то, где развивается та или иная концепция: как история самих концепций, так и системы их противопоставлений другим концепциям не одни и те же повсюду, они зависят от страны или, точнее, от той или иной культурной традиции" [Серио 1993, 38]. Так, одно дело рассматривать, как мы постараемся показать ниже, генеративизм на фоне американского дескриптивизма (тогда его разрыв с американской же традицией достаточно очевиден), а другое— на фоне других европейских традиций (ср. [Кубрякова 1994]). Точно такая же зависимость проявляется и в реализации, казалось бы, общих установок — например, когнитивизма и т. п. В сочетании с установками предпосылочные части парадигмы дают отчетливое представление о целях и задачах теоретической лингвистики для данного научного сообщества, и уже на этом основании можно судить об общей ориентации парадигмы на описание языка или объяснение, на статические или же динамические свойства изучаемых объектов и т. д. В силу сказанного ясно, что установочно-предпосылочная часть научной парадигмы органично связана и с таким следующим звеном парадигмы, как ее предметно-познавательная часть.
Это звено парадигмы определяется более конкретно тем, что считается непосредственнй областью лингвистического анализа, — единицы или правила, функции или отношения зависимости, особые категории или параметры языковых систем и т. п. В эту часть парадигмы мы также включаем сведения о круге вовлекаемых в анализ, языков, а также о преимущественно синхронном или же диахроническом подходе к языковым явлениям, а, возможно, и сведения о принимаемом направлении анализа — от формы к ее содержанию или же, напротив, от заданного содержания — к выражающим его формам. Небесполезно отметить, что выбираемая область исследования может быть как жестко огра-
 ничейной (ср. теорию речевых актов), так и областью с размытыми границами (ср. лингвистику текста).
ничейной (ср. теорию речевых актов), так и областью с размытыми границами (ср. лингвистику текста).
"Техническо е", или же процедурное оперативное звено парадигмы можно было бы назвать также областью выбираемых методик и конкретных процедур анализа; в нее мы включаем используемые в данной парадигме знания приемы и способы постижения данных, излюбленные модели, отношение к формализации этих данных, формы их записи и т. д.; о важности этого звена парадигмы можно судить уже по тому, что многие школы получали свое название по развивавшимся здесь приемам анализа — ср. школы дистрибутивного анализа, анализа по непосредственно составляющим, трансформационное направление. ' Развивая расширительный вариант истолкования понятия парадигмы знания, мы отнюдь не исключаем возможностей использовать это понятие и в других смыслах, а также учитывать в нем другие его стороны и аспекты. Так, характеризуя положительные и сильные стороны концепции Куна, методологи правильно отмечают, что он впервые настаивает на значительной роли научных сообществ. "Парадигма— это то,— указывает Кун, — что объединяет членов научного сообщертва, и, наоборот, научное сообщество состоит из людей, признающих парадигму" [Кун 1977, 229]. Справедливо и то, что "Кун через научное сообщество вводит в свою концепцию человека" [Микулинский, Маркова 1977, 281]. В куновском духе выдержано и разъяснение Ф. Ньюмейера, касающееся известной престижности того направления, которое выдвигает собственную парадигму знания: так, можно было не принимать генеративной грамматики, но не считаться с нею было в 70-е гг. невозможным [Newmeyer 1986; 1988-1989]. Важной чертой в концепции научной парадигмы является, несомненно, и то, что с этим подходом связывается возможность констатировать в науке не только "большие" и "малые" научные революции, но, по-видимому, "большие" и "малые" научные парадигмы.
Заключая настоящий раздел, мы бы хотели в этой связи завершить его некоторыми соображениями о том, как можно классифицировать научные парадигмы знания. Из того, что мы утверждали о трехчастной стуктурации парадигмы, ясно следует, что и принципы классификации могут зависеть прежде всего от



 того, какую из рассматриваемых частей — целеполагающую, предметную или процедурную — следует считать наиболее существенной для характеристики всей парадигмы в целом, Очевидно и то, что опыт предыдущих классификаций научных парадигм (не всегда к тому же с эксплицитно истолкованными критериями предлагаемых классификаций) указывает на ориентацию на какой-либо один из аспектов ее бытия: например, на лидера или создателя соответствующего направления или же на ключевое для всего направления понятие. Так, в специальной литературе нередко говорят в последнее время о соссюрианской или неогум-больдтианской парадигмах, с одной стороны, или же о парадигмах структурализма и генеративизма, с другой. В этих последних случаях прослеживается ориентация на установочную часть парадигмы.
того, какую из рассматриваемых частей — целеполагающую, предметную или процедурную — следует считать наиболее существенной для характеристики всей парадигмы в целом, Очевидно и то, что опыт предыдущих классификаций научных парадигм (не всегда к тому же с эксплицитно истолкованными критериями предлагаемых классификаций) указывает на ориентацию на какой-либо один из аспектов ее бытия: например, на лидера или создателя соответствующего направления или же на ключевое для всего направления понятие. Так, в специальной литературе нередко говорят в последнее время о соссюрианской или неогум-больдтианской парадигмах, с одной стороны, или же о парадигмах структурализма и генеративизма, с другой. В этих последних случаях прослеживается ориентация на установочную часть парадигмы.
Возможно, однако, классифицировать парадигмы, признавая главенствующую роль второго компонента парадигмы — ее предметной области. По удачной формулировке Ю. С. Степанова "язык как бы незаметно направляет теоретическую мысль (философов, размышляющих о языке) ... поочередно по одной из своих осей — сначала семантики, затем синтактики и, наконец, прагматики" [Степанов 1985, 5]. Соответственно, при выборе одного из этих измерений языка в качестве находящихся в фокусе внимания, исследование всего многомерного пространства языка происходит в рамках либо семантической, либо синтактической, либо прагматической парадигмы. Данный опыт применения этих лингвофилософских парадигм мы находим в работах Д. И. Руденко [Руденко 1990; 1993].
Вполне возможно также выделение таких лингвистических парадигм знания, которое обусловлено признанием вхождения лингвистики в более высокую по рангу науку*. Так, со времен де Соссюра, когда язык был определен как знаковая система особого рода, естественным представлялось рассмотрение явлений языка с точки зрения семиотики и множество лингвистических исследований можно было бы по праву считать выполненными в русле семиотической парадигмы. В 60-е и 70-е гг. достаточно рас-
пространенной была точка зрения, высказанная Н. Хомским, о языке как о явлении ментальном, психическом, благодаря чему американской лингвистике был присущ какое-то время сильный крен в когнитивную психологию (a psychological turn), сменившийся затем явной когнитивной ориентацией. Соответственно, психологическая парадигма знаний о языке была замещена когнитивной.
В историографических работах мы считаем самым целесообразным признавать доминирующую роль первой, установочной части парадигмы, что в значительной мере совпадает и с тем, на познание каких свойств языка направлена данная парадигма, и с тем, какие объяснения этим свойствам считаются наиболее убедительными (генетические, функциональные, когнитивные и т. п.). Историю языкознания двух последних веков можно тогда условно представить как смену сравнительно-исторической парадигмы знания структуральной и далее— генеративной. Параллельно этим "большим" парадигмам внутри них можно было бы выделять и "малые" (такая практика широко распространена для демонстрации особенностей структуральной парадигмы). Но главный вопрос, который интересует нас в данной работе, касается того, как можно обрисовать постгенеративизм.
Для того, чтобы совершить это, мы и рассмотрим первоначально генеративное направление как особую парадигму научного знания и ее влияние на эволюцию лингвистической мысли двух последних десятелетий с тем, чтобы обрисовать в завершение раздела ту ситуацию, которая сложилась в лингвистике к настоящему моменту.
 Ср., например, освещение с этой точки зрения русской антропотеософской традиции в разделе В.И.Постоваловой.
Ср., например, освещение с этой точки зрения русской антропотеософской традиции в разделе В.И.Постоваловой.



 Ш. Генеративная грамматика как особая парадигма лингвистического знания
Ш. Генеративная грамматика как особая парадигма лингвистического знания
Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 390; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |