
КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Трансформация капитализма в XX веке: экономический проект справедливого общества: Кейнс, Мизес, Хайек, Фридман
В 1920-1930-е годы экономическая наука претендует на центральное место среди всех общественных наук. Кроме того, именно к ней, а не к философии, социологии и политологии, обращаются политики за «рецептом» выхода из экономической депрессии. Поэтому она не может не представить свое видение правильно устроенного (т.е. справедливого) общества. Дж. М. Кейнс (вместе с Бертраном Расселом) в свои
ГЛАВА 2. СПРАВЕДЛИВОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.12. Трансформация капитализма в XX веке: экономический проект справедливого...



 студенческие годы в Кембридже был активным членом философского кружка Джорджа Мура, самого известного представителя этики того времени, поэтому проблемы справедливости безусловно находились в поле его зрения. Мотивы его революционного преобразования экономической теории (а Кейнс претендует на создание «общей теории», утверждая, что все предыдущие экономические теории ограничиваются исследованием только частного случая экономического равновесия) находятся в моральной сфере. Он признает необходимость неравенства в обществе (как стимула деятельности), но не считает оправданным его (неравенства) размеры: «...есть известные социальные и психологические оправдания значительного неравенства доходов и богатства, однако не для столь большого разрыва, какой имеет место в настоящее время». Кроме того, его волнует проблема занятости и безработицы с моральной точки зрения, т.е. безработица во всех смыслах им понимается как абсолютное социальное зло:
студенческие годы в Кембридже был активным членом философского кружка Джорджа Мура, самого известного представителя этики того времени, поэтому проблемы справедливости безусловно находились в поле его зрения. Мотивы его революционного преобразования экономической теории (а Кейнс претендует на создание «общей теории», утверждая, что все предыдущие экономические теории ограничиваются исследованием только частного случая экономического равновесия) находятся в моральной сфере. Он признает необходимость неравенства в обществе (как стимула деятельности), но не считает оправданным его (неравенства) размеры: «...есть известные социальные и психологические оправдания значительного неравенства доходов и богатства, однако не для столь большого разрыва, какой имеет место в настоящее время». Кроме того, его волнует проблема занятости и безработицы с моральной точки зрения, т.е. безработица во всех смыслах им понимается как абсолютное социальное зло:
«Наиболее значительными пороками экономического общества, в котором мы живем, являются его неспособность обеспечить полную занятость, а также его произвольное и несправедливое распределение богатства и доходов» [88].
Поскольку капитализм не обеспечивает ни полной, ни эффективной занятости, постольку государство должно регулировать занятость: полная занятость обеспечивает процветание, а не наоборот, как считали раньше.
Кейнс нисколько не сомневался в жизнеспособности самой рыночной экономики. Он не видел никаких оснований для перехода к социализму (он бывал в Советской России в 1925 и 1936 гг., брат его жены, балерины Лопухиной, выступавшей у Дягилева, служил директором Ма-риинского театра, и вся информация о большевистской России получалась Кейнсом из первых рук), когда собственность на средства производства становится государственной. Неравным образом могут быть распределены богатства (это капитализм), равным распределением может быть только распределение нищеты (коммунизм), считал Кейнс. Частные интересы эффективно определяют, что и как должно быть произведено, по какой цене реализовано, т.е. система свободного предпринимательства хорошо использует те факторы, которые она вообще использует. Но в определении эффективной занятости эта система оказывается непригодной, и именно здесь требуется помощь государства. Также Кейнс не отказывался от принципа индивидуализма, наоборот, он считал, что его система государственного регулирования рынка (не прямого характера, а с помощью финансовых и фискальных инстру-
ментов) «единственно практически возможное средство избежать полного разрушения существующих экономических форм» и основное «условие для успешного функционирования личной инициативы».
В определенной степени Кейнс в экономической форме представил те черты справедливого (западного) общества, которые уже проявили себя в действительности 1930-х годов и нашли выражение в экономической и социальной политике. Это касается прежде всего США и «Нового курса» президента Франклина Д. Рузвельта («New Deal»). До этого, в 1920-е годы, господствовала политическая установка: «Предоставьте бизнес самому себе, а он позаботится о вас». Реформы Рузвельта предполагали государственное вмешательство и регулирование экономики. Считалось, правда, что это вынужденная мера по преодолению экономической депрессии. Кроме мер экономического регулирования тогда установили многие сейчас уже привычные требования социальной справедливости: минимум заработной платы, максимум продолжительности рабочего дня, заключение коллективных договоров, право на создание профсоюзов, оказание помощи безработным, социальное страхование. В своей речи, названной позже «речью о четырех свободах» (1941), Рузвельт обрисовал основные черты справедливого общества для американцев: равенство возможностей для молодежи и других слоев населения; работа для тех, кто может работать; безопасность для тех, кто нуждается в ней; ликвидация особых привилегий для избранных; сохранение гражданских свобод для всех; получение результатов научного прогресса в условиях более высокого и постоянно растущего уровня жизни.
В будущем Рузвельт обещал создать мир (уже не только американский), основанный на четырех основополагающих человеческих свободах:
Первая — это свобода слова и высказываний — повсюду в мире.
Вторая — это свобода каждого человека поклоняться Богу тем способом, который он сам избирает, — повсюду в мире.
Третья — это свобода от нужды, что в переводе на понятный всем язык означает экономические договоренности, которые обеспечат населению всех государств здоровую мирную жизнь, — повсюду в мире.
Четвертая — это свобода от страха, что в переводе на понятный всем язык означает такое основательное сокращение вооружений во всем мире, чтобы ни одно государство не было способно совершить акт физической агрессии против кого-либо из своих соседей, — повсюду в мире.
ГЛАВА 2. СПРАВЕДЛИВОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.12. Трансформация капитализма в XX веке: экономический проект справедливого...




 Очень важно, что наряду с традиционными свободами — свободой слова; свободой совести — Рузвельт выделяет ранее неизвестную «Freedom from want» — свободу от нужды, а также свободу от страха, т.е. государство берет на себя обязанности обеспечения минимального благосостояния для граждан и сохранения мира. И еще вот что совершенно новое — все эти свободы предназначены не только для США, но и для всего мира. В итоге после войны, в 1948 г., ООН приняла «Всеобщую декларацию прав человека», где наряду с уже известными правами и свободами были выделены права на труд и его справедливое вознаграждение (ст. 23): каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы; каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за равный труд; каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения.
Очень важно, что наряду с традиционными свободами — свободой слова; свободой совести — Рузвельт выделяет ранее неизвестную «Freedom from want» — свободу от нужды, а также свободу от страха, т.е. государство берет на себя обязанности обеспечения минимального благосостояния для граждан и сохранения мира. И еще вот что совершенно новое — все эти свободы предназначены не только для США, но и для всего мира. В итоге после войны, в 1948 г., ООН приняла «Всеобщую декларацию прав человека», где наряду с уже известными правами и свободами были выделены права на труд и его справедливое вознаграждение (ст. 23): каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы; каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за равный труд; каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения.
Другой пример регулирования экономики в 1930-е годы — Швеция. В 1932 г. в Швеции социал-демократы выдвинули антикризисную программу и одержали победу на выборах. Был создан однопартийный социал-демократический кабинет во главе с П. А. Ханссоном, которому принадлежала идея «дома народа», т.е. государства всеобщего благосостояния, в котором реализуются интересы всех слоев общества. Главной задачей социал-демократов стала борьба с безработицей (почти половина всех рабочих Швеции оказались в то время безработными), во второй половине 1930-х годов был проведен ряд социальных реформ, из которых наиболее важны следующие: страхование по безработице, повышение пенсий по старости, пособия на детей, оплаченный предпринимателями отпуск (тогда боролись за 12-дневный отпуск, а сейчас он составляет пять недель), поощрение жилищного строительства, введение всеобщего бесплатного 9-летнего обучения. Реформы финансировались за счет повышения налога на крупные доходы и имущество. Таким образом, шведы решились на серьезное изменение политики распределения и перераспределения, что означало изменение взглядов на дистрибутивную справедливость, поддержанное всеми слоями общества. После Второй мировой войны ставки прогрессивного налога еще более увеличились, достигнув 70%, но, как ни странно, экономика Швеции продолжала развиваться, и 1960-е годы стали временем ее процветания. Рост ВВП составлял в среднем 4,6% в год, замедление произошло только в результате кризисов 1970-х, но и тогда прирост составлял 2% ежегодно.
Изменения в экономической политике 1930-х годов отразились и на понимании либералами свободы и справедливости. Примером может служить позиция Джона Дьюи, выраженная в работе «Liberalism and Social Action» (1935). Если традиционный либерализм считал, что правительство всегда противостоит свободе индивида, ограничивая его действия, то современный либерализм признает необходимость действий государства в целях защиты и гарантии свободы и индивидуализма:
«В целом в последние годы политика либерализма была направлена на развитие "социального законодательства", на то, чтобы добавить к прежним функциям правительства предоставление социальных услуг. Не нужно недооценивать значения подобного добавления. Эта тенденция обозначает отход от laissezfaire либерализма и является чрезвычайно важной для воспитания общественного мнения и подготовки общественности к реализации организованного социального контроля. Данные изменения способствовали разработке определенных технологий, которые в любом случае необходимы социализированной экономике. Однако цели либерализма будут оставаться на втором плане в течение долгого времени, если он не пойдет дальше, в направлении социализации производительных сил, с тем чтобы свобода личности опиралась на саму структуру экономической организации» [89].
Эта позиция Дьюи была впоследствии раскритикована Фридрихом Хайеком, как по существу антилиберальная («profoundly antiliberah).
В противовес Кейнсу с его политикой государственного регулирования капитализма, а также социалистам и социал-демократам с их стремлением к перераспределению в пользу большего социального равенства и левому крылу либералов в 1930— 1940-е годы сформировалось так называемое либертарианское движение (название весьма условное, которое соединяет и анархистов, и анархо-индивидуалистов, и других представителей движения против господства государства), представителями которого были Хайек и Мизес, а потом, в 1950-е и 1960-е, — Милтон Фридман, Мюррей Ротбард и др. Первым еще в 1920-е в бой вступил Людвиг фон Мизес, критикуя социалистическое общество и пытаясь обрисовать контуры справедливого капиталистического общества. В работе «Либерализм» (1927) он опровергает утверждение, что либерализм ставит интересы капиталистов и предпринимателей выше интересов других слоев общества:
«Исторически либерализм был первым политическим движением, которое имело целью способствовать благосостоянию всех людей, а не отдельных групп населения. Либерализм отличается от социализма, который также провозглашает стремление к благу для всех, не по цели, к которой он стремится, а по средствам, которые он выбирает для достижения этой цели.
Mm
ГЛАВА 2. СПРАВЕДЛИВОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.12. Трансформация капитализма в XX веке: экономический проект справедливого...

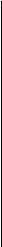 ...Общество, в котором реализуются либеральные принципы, обычно называется капиталистическим обществом, а состояние такого общества — капитализмом» [90].
...Общество, в котором реализуются либеральные принципы, обычно называется капиталистическим обществом, а состояние такого общества — капитализмом» [90].
Социалисты и коммунисты хотят обеспечить социальное равенство, но «сделать негра белым выше человеческих сил» (не знал Ми-зес о современных возможностях косметологии). Но негру можно предоставить такие же права, как и белому, и тем самым дать возможность зарабатывать столько же, если он столько же производит, — в этом равенство людей. Можно достичь большего равенства посредством перераспределения доходов, но при этом забывается самое главное — каким способом производится продукт, который будет делиться: если все больше делить по принципу равенства, то скоро и делить будет нечего. Интересно, что Мизес социалистов и социал-демократов воспринимает как нечто единое, заслуживающее критики. В работе «Общественное хозяйство: Исследования социализма» (1922) он пишет:
«Социал-демократы, безусловно, продолжали бы жульничать с лозунгом демократии, если бы по исторической случайности большевистская революция не заставила их до времени сбросить маску и продемонстрировать насилие, неотъемлемое от их учения» [91].
Нельзя не отметить, что сам Мизес в этих двух работах почему-то скатывается на националистические позиции, его позиция открыто антироссийская, русских он как-то странновато называет «нацией Ленина, Толстого и Достоевского» — конечно, все три персонажа принадлежат российской культуре, но вряд ли вместе они достаточно объективно обрисовывают русский характер. Мизес заявляет, что русские — единственная нация, оставшаяся в Европе милитаристской, поэтому они представляют основную угрозу.
Вот как понимает Мизес справедливость в работе 1957 г. «Теория и история» (по сути дела, он возвращается к утилитаристской концепции справедливости):
«Конечным критерием справедливости является содействие сохранению общественного сотрудничества. Поведение, способствующее сохранению общественного сотрудничества, является справедливым, поведение, наносящее ущерб сохранению общества, — несправедливым. Не может стоять вопрос об организации общества на основе произвольных предвзятых представлений о справедливости. Задача в том, чтобы организовать общество для максимально возможного осуществления тех целей, которых посредством общественного сотрудничества стремятся достигнуть люди. Общественная польза — единственный критерий справедливости. Она является единственным ориентиром законодательства» [92].
И далее представление справедливого общества как общества капиталистического :
«САМЫЕ ярые критики капитализма — это те, кто порицает его за якобы порождаемую им несправедливость... Наиболее вредное из всех заблуждений — иллюзия о том, что "природа" наделила каждого человека определенными правами... Бедные влачат жалкое существование лишь потому, что неправедные люди лишили их всех благ, предназначенных им по рождению... Исправить дело может не апелляция к "справедливости", а замена тупиковой политики политикой здравого смысла, то есть свободного капитализма. Отнюдь не праздные рассуждения об абстрактной "справедливости" позволили поднять благосостояние простого человека на его сегодняшний уровень, а деятельность людей, на которых наклеивали ярлыки "закоренелых индивидуалистов", "эксплуататоров"... Рабочие смогли улучшить свою жизнь благодаря тому, что увеличился объем капитального оборудования на каждого потенциального рабочего. В результате все большая часть произведенных потребительских товаров достается рабочим. Пожалуй, ни Маркс, ни Кейнс, ни кто-либо другой из менее известных противников капитализма не смог бы опровергнуть следующее утверждение: существует только один способ увеличивать размеры заработной платы постоянно и на благо всех желающих трудиться, а именно — ускорить темпы увеличения капитала по отношению к росту населения. Если же считать такое положение дел "несправедливым", то винить во всем следует природу, но не человека» [93].
Хайек еще более решительно защищает частную справедливость капиталистического общества и решительно выступает против социальной справедливости. Он специально разбирает вопрос о справедливости в работе «Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики» (1973-1979). Но еще в 1944 г. в работе «Дорога к рабству» Хайек предупреждал, что планирование при социализме неизбежно ведет к тотальному контролю государства над личностью, чиновники будут решать, кому, что и когда причитается. «Ступив во имя справедливости на путь планирования, правительство не сможет отказаться нести ответственность за судьбу и положение каждого гражданина» [94]. Это тоталитарное планирование охватывает всю жизнь человека и лишает его инициативы, правительство решает, какие цели справедливы, какие нет. А ведь рынок представляет собой самый совершенный механизм распределения на основе объективной справедливости — рынок действует как стихия, он слеп, и как раз в этом гарантия его беспристрастности, так сказать, невзирая на лица, рынок осуществляет свой контроль.
 raiatik
raiatik
ч ЕАЛИВОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.12. Трансформация капитализма в XX веке: экономический проект справедливого...
 | |||||||
 | |||||||
 | |||||||
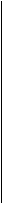 | |||||||
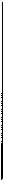 | |||||||
| 4% V нч^Щих решать такие вопросы,— если и не абсолютно надеж-ijtifc Иней мере более удовлетворительно, чем они решаются в кон-■uik ^теме. В самом деле, разве у нас нет представлений о "пра-1|%/е'' или "справедливом вознафаждении"? И разве не можем щц,;^ Надежд нет оснований. Те стандарты, которые у нас есть, |
| ■Ж40! людям трудно поверить, что у нас нет моральных принци- |
| В. Li, |
!1И3"СЯ свойственному людям чувству справедливости? К сожале-инИх Надежд нет оснований. Те стандарты, которые у нас есть ^конкурентной системой и не могут не исчезнуть вместе с ней. и,-3) азьйаем справедливой ценой или справедливым вознагражде-щ\ "опросту привычные цена или вознафаждение, которых мы р(Ц ать, опираясь на прошлый опыт, или же такие цена и возна-°Торые существовали бы в отсутствие монополии...» [951.
тжщ °Сть, с точки зрения Хайека, — свойство индивидуаль-
ливяИ(}°то поведения. Только действие может быть справед-
жет{в%Г,Раведливым, какой-либо факт или положение дел мо-
но вирь ^ или плохим (положительным или отрицательным),
индврк^м или моральным. Но не только действия одного
видение т атрибут справедливости, действия множества инди-
справшк Вия организации также могут быть справедливыми/не-
зацщЦ. (правительства безусловно относятся к таким органи-
что-ший^Ивость связана с законом (она предполагает считать
а не ра% ^ивым/несправедливым в связи с правилом действия,
часть W^ействия), но не тождественна всему закону. Только та
ведение ельства, которая содержит правила справедливого по-
во). Приь °^язательства для граждан (например, уголовное пра-
тивньгёрк все правила справедливого поведения имеют нега-
нию ци f ~~ запрет на несправедливое поведение по отноше-
помощиа есть исключение, например, обязательство оказать
(вэтоияЦк11^ бедствие на море). Функция этих универсальных
каждого °е значение) правил заключается в том, чтобы сказать
не надя«к°н может рассчитывать, где граница его действия. Они
ют усжшк^Идов какими-то особенными правами, а закладыва-
QpfflL^Ho которым эти права могут быть приобретены,
вает cifB%CTb конкуренции, например, в том, что она обеспечи-
пределшй *° Процедуру приобретения, но не в результате ее рас-
ние стори, ^аведливыми могут быть правила игры и их соблюде-
CTopoBttjtiC Результат будет зависеть от умения и удачи каждой
правищ% еЯливость служит для того, чтобы выработать такие
индивщ*^ °беспечат сотрудничество и предотвратят конфликт
зать, чащ Тся один шаг до неоинституционалистов, чтобы ска-
188 ^Ивые правила снижают уровень неопределенности в
экономических отношениях и тем самым уменьшают трансакционные
издержки).
Особенно Хайек возражает против социальной справедливости. Если частную справедливость можно понимать как комплекс норм индивидуального корректного поведения, то социальная справедливость — совершенно пустое понятие (strictly empty and meaningless), и вообще справедливость не применима к понятию «общество», которое управляется правилами, а не общей целью или пониманием общего блага. Рыночное распределение не зависит от чьей-то воли или интереса, оно не направлено против или на пользу кому-либо конкретно, это спонтанный порядок (а не организация с управленческой властью), который не имеет отношение к справедливости результата распределения.
«Наиболее разрушительным употреблением прилагательного "социальный", когда смысл определяемого им слова уничтожается полностью, является используемый практически всеми оборот "социальная справедливость"... вся идея распределительной справедливости — каждый индивид должен получать соответственно своему нравственному достоинству — при расширенном порядке человеческого сотрудничества (или каталлак-сии) бессмысленна, поскольку размеры имеющегося продукта (и даже его наличие) обусловлены, в общем-то, нравственно нейтральным способом распределения его частей» [96].
В целом он настаивает на изменении формы справедливости в современном обществе:
«В противоположность социализму, либерализм ориентирован на коммутативную, а не на так называемую дистрибутивную (распределительную) или, как теперь чаще говорят, "социальную" справедливость» [97].
Дело австрийской школы (Мизеса и Хайека) продолжил Милтон Фридман (сам основатель чикагской школы). Фридман последовательно выступал в защиту либертарианских идеалов свободы против социального равенства. Основную опасность он видит в усиливающейся роли государственного регулирования. В работе «Капитализм и свобода» (1962) он пишет:
«Свобода — это редкое и хрупкое растение. Разум говорит нам, а история подтверждает, что главную угрозу свободе представляет концентрация власти. Государство необходимо для сохранения нашей свободы, и оно же является инструментом, посредством которого мы можем пользоваться этой свободой, но тем не менее когда власть концентрируется в руках политиков, она превращается в уфозу нашей свободе» [98].

 ГЛАВА 2. СПРАВЕДЛИВОСТЬ ОБЩЕСТВА
ГЛАВА 2. СПРАВЕДЛИВОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.12. Трансформация капитализма в XX веке: экономический проект справедливого...




 Необходимо ограничить полномочия государства (функции государства — защита свободы от внешних врагов, поддержание законности и порядка, обеспечение выполнения договоров, поддержка конкуренции), но не менее важно государственную власть рассредоточить (передавать все больше функций местным органам власти, что, по-моему, крайне важно для современной России), поскольку от такой власти легче избавиться, например, если вам не нравятся власти одного штата, вы легко можете переехать в другой.
Необходимо ограничить полномочия государства (функции государства — защита свободы от внешних врагов, поддержание законности и порядка, обеспечение выполнения договоров, поддержка конкуренции), но не менее важно государственную власть рассредоточить (передавать все больше функций местным органам власти, что, по-моему, крайне важно для современной России), поскольку от такой власти легче избавиться, например, если вам не нравятся власти одного штата, вы легко можете переехать в другой.
Фридман настаивает, что в капиталистических странах, как ни поразителен этот факт, неравенства меньше, чем в некапиталистических: «Бесспорно, что в западных капиталистических обществах — в Скандинавских странах, во Франции, Англии и Соединенных Штатах — неравенства гораздо меньше, чем в государстве с такими четкими сословными перегородками, как Индия, и в такой отсталой стране, как Египет. Более затруднительно провести сравнение с такими коммунистическими странами, как Россия, из-за недостатка информации и малой ее достоверности. Тем не менее, если определять неравенство различием в уровне жизни привилегированных и непривилегированных классов, такого неравенства в капиталистических странах, безусловно, меньше, чем в коммунистических. В самих западных странах неравенства тем меньше, чем более капиталистической является данная страна: в Англии его меньше, чем во Франции, в Соединенных Штатах меньше, чем в Англии...» [99].
Поэтому Фридман выступает последовательным противником политики государственного перераспределения доходов:
«Будучи либералом, я не нахожу никаких оправданий для системы прогрессивного налогообложения, вводимой с исключительной целью перераспределения дохода. Мне это представляется типичным случаем насилия с целью отнять у одного и отдать другим, что прямо противоречит индивидуальной свободе» [100].
Однако ни в 1950-е, ни в 1960-е годы либертарианские модели справедливого общества, основанного на индивидуальной свободе, не прижились. В то время в Европе господствовало «государство всеобщего благосостояния». Сам термин возник еще в 1940-х годах, когда в докладе У. Бевериджа в британском парламенте (1942 г.) говорилось о принципах «государства благосостояния» (Welfare State). Термин «государство благосостояния» употреблялся как совпадающий в основном с бисмарковским понятием «социальное государство» (Sozialstaat). (Кстати, Россия по конституции является Sozialstaat.) Лейбористское правительство реализовало эту модель, формируя с 1945 г. систему социальной защиты, включающую предоставление государственных га-
рантий для населения, установление обязанности работодателя обеспечить социальное страхование наемных работников с их частичным участием. Обеспечивались базовые условия жизнедеятельности — государственное (бесплатное) здравоохранение, равные возможности семьям в воспитании детей (пособия на детей), предотвращение массовой безработицы. В США в 1964 г. в первом послании о положении страны президент Линдон Джонсон провозгласил начало «бескомпромиссной войны с бедностью в Америке» как часть программы построения «Великого общества» (Great Society), тогда же были созданы печально известные по нынешнему экономическому кризису программы «Ме-дикэйд» и «Медикэр». Создание «социального рыночного хозяйства» в качестве главной задачи экономической политики страны было заявлено канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром в 1950 г., а Людвиг Эрхард на съезде Христианско-демократического союза в 1957 г. заявил о начале второго этапа «социального рыночного хозяйства» в ФРГ.
Государство всеобщего благосостояния, будучи капиталистическим по своей природе, основывалось на понятиях социального равенства, перераспределения доходов, бесплатного здравоохранения, образования, социального страхования и пенсионной системы, пособия по безработице. Естественно, капитализм и социальное равенство представляли собой определенное противоречие, но им надо было найти способ сосуществования. Индивид вскоре стал ожидать и требовать от государства (а значит — и от капитализма) того, что раньше не входило в его функции. Социальных последствий этого процесса делегирования полномочий государству множество: например, работающие взрослые перестали надеяться на помощь детей в старости (так осуществлялась поддержка пожилых людей в традиционном обществе), а надеялись только на пенсию от государства. Соответственно снизилась рождаемость (конечно, не только по этой причине). Или другой пример — безработица превратилась в средство получения пособия и стала осознаваться как свободный выбор нетрудовой жизни и т.д.
Все эти ожидания в 1968 г. вдруг преобразились в конкретные революционные требования: восставшие студенты и митингующие рабочие в Париже выдвигали забавную формулу «40—60—1000» (40-часовая рабочая неделя, пенсия в 60 лет, минимальный оклад в 1000 франков). Революционные события, всколыхнувшие всю Европу, способствовали усилению левых сил как в политике и экономике, так и на интеллектуальном фронте. Выступление студентов было поддержано такими влиятельными французскими интеллектуалами, как Жан-Поль Сартр и Мишель Фуко.
ГЛАВА 2. СПРАВЕДЛИВОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.13. Современные дискуссии о справедливости капитализма
Собственно, парижская весна 1968-го и была в некотором смысле реакцией на три десятка лет существования кейнсианского капитализма, который достиг небывалых темпов экономического роста (среднегодовой уровень роста 16 ведущих европейских капиталистических стран составлял в 1950—1973 гг. 4,9%) и уровня благосостояния населения (что дало основание Дж. К. Гэлбрейту выступить с теорией «affluent society», которое уже больше не управляется основным экономическим постулатом ограниченности ресурсов). На фоне беспрецедентного роста материального благосостояния во всем мире 1950-е и 1960-е также характеризовались значительными политическими событиями — кубинская революция 1959 г.; рост антиколониального движения: лейбористское правительство Британии 1945—1951 гг. признало независимость почти половины мира — Индии, Пакистана, Бирмы, Шри-Ланки и Палестины; в 1950—1960-х очередь дошла до Африканского континента (Нигерия, Гана, Уганда, Кения и Танзания). В Европе в 1975 г. была разрушена диктатура Франко (и на выборах 1982 г. победили социалисты), в Португалии в 1974 г. в результате Revolucao dos Cravos (Революции гвоздик) был свергнут режим Салазара (который говорил: «Наша позиция является антипарламентской, антидемократической, антилиберальной, и на ее основе мы хотим построить корпоративное государство», не случайно Португалия тогда была самой бедной страной Европы); в Греции в 1974 г. свергнут диктаторский режим «черных полковников». Все это — звенья одной цепи преобразования политического и экономического мира, недолго оставалось до крушения Берлинской стены и до завершения социалистического эксперимента в России.
«Кейнсианский капитализм», или welfare state capitalism, в его чистом виде закончился в 1974 г., когда разразился мировой экономический кризис. Начался он в США, спад производства составил 50%, число безработных через год достигло 8,5 млн человек, мировые цены на нефть и сырье выросли в 4,5—5 раз. Потерпел крушение оформленный в 1944 г. «бреттон-вудский» золотодолларовый стандарт. Очень скоро кризис достиг берегов Европы, и после войны впервые Англия, Франция и Германия одновременно ощутили спад производства. Но самое главное, впервые экономика столкнулась со стагфляцией (одновременным ростом инфляции и падением производства), темп инфляционного роста цен в Америке составил более 10% в 1974—1975 гг. Кейн-сианская экономическая теория никак этот феномен объяснить не могла — ведь считалось, что инфляция в умеренном размере только способствует экономическому росту. Тогда правительства стали боль-
ше внимания уделять идеям монетаризма (Милтона Фридмана), новое правительство консерваторов в Великобритании во главе с Маргарет Тэтчер и правительство республиканцев в США во главе с Рональдом Рейганом стали проводить политику сокращения государственных расходов, денационализации, снижения налогов, снижения учетной ставки процента. И — о «английское» чудо! — за 1982 г. инфляция упала с 12 до 6%, снижался бюджетный дефицит, а в торговом балансе появилось активное сальдо. «Рейганомика» также показала существенные позитивные экономические результаты. Отказ от политики welfare state в капиталистических странах способствовал усилению правых либеральных идей в политике и социальной науке, да и с началом китайских реформ Дэн Сяопина в 1981 г. и советской «перестройки» в 1986 г. значение левых идей и «социалистической справедливости» существенно снизилось.
Вот в такой бурной экономической и политической атмосфере и рождалась современная нам концепция справедливости, подготовленная самыми значимыми дискуссиями 1970-х и 1980-х. Дискуссия о справедливости (Ролз, Нозик, Дворкин) возникла в 1960-1970-е годы в США. Ричард Рорти называет и конкретную причину, почему именно там и тогда лозунг о справедливости стал так популярен, — это вьетнамская война. Американским интеллектуалам необходимо было теоретическое обоснование тезиса об абсолютной невозможности (несправедливости) войны, что и было (косвенно) предоставлено Ролзом и Дворкиным в виде теории справедливости, основанной на непримиримых кантианских позициях. Посмотрим, как развивалась эта дискуссия.
Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 446; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |