
КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Социологическое понимание справедливости
В политической экономии XIX в. господствовала точка зрения, что экономика складывается из производства, обмена, распределения и потребления материальных благ. Конечно, эта позиция сформировалась не в один момент — сначала меркантилисты признавали экономикой лишь отношения обмена как способ создания стоимости, но затем в классической английской политической экономии добавилось понимание значения производства (богатства) и разделения труда для объяснения природы («An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations») экономического мира, Д. Рикардо и марксисты добились включения отношений распределения дохода в понятие экономического, и круг замкнулся тогда, когда маржиналисты обратили внимание на фигуру потребителя и включили потребление в область экономического. Неоклассическая экономическая наука отказалась от такого субстанционального понимания экономического, отдав предпочтение формальному анализу всеобщей ситуации рационального выбора эффективных средств достижения целей в условиях ограниченных ресурсов. Такой поворот означал переход на новый (более высокий) уро-иень абстракции в понимании экономических отношений, и в этом заключался ее шаг навстречу социологии как общей науки о человеческом поведении (и в то же время потерялся субстанциональный аспект экономики, о чем жалел Карл Поланьи).
Мы попробуем воспользоваться «сочными плодами» (оказывается, это не просто метафора, а научный термин — различают сухие плоды, например, орехи, и сочные плоды, например, «целиком сочный мно-госемянный плод» — ягода) «методологического империализма» (а вот это метафора, она связана с наступлением экономистов на территорию социологии) и попытаемся применить основательно забытую эконо-
ГЛАВА 2. СПРАВЕДЛИВОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.1. Социологическое понимание справедливости
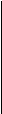

 мистами схему «производство—обмен—распределение—потребление» для объяснения общества с социологической точки зрения и понимания того, зачем социологии теория справедливости.
мистами схему «производство—обмен—распределение—потребление» для объяснения общества с социологической точки зрения и понимания того, зачем социологии теория справедливости.
В первую очередь материалистическая традиция дает нам понимание «производства общества», одна из запоминающихся фраз из Маркса: «...производя товары, рабочий сам производит себя как товар», т.е. экономический способ производства определяет и способ производства общественных отношений. Но более интересна другая метафора — в каждый момент времени в обществе производятся и воспроизводятся социальные отношения, т.е. общество представляет собой процесс (производства), а не статическую конструкцию. Например, посредством выбора того или иного товара индивид в таком действии производит и воспроизводит структуру социального различия: об этом говорил Бурдье в работе «Distinction». Или вот мой пример — если я понимаю джаз (или я думаю, что понимаю) и покупаю диск «DePhazz», который мне действительно нравится, то мой вкус отделяет меня от вас, а мой экономический выбор закрепляет это различие и воспроизводит социальную структуру — отношение социальных классов и слоев.
Потребление как социальный процесс и общество как «общество потребления» были всегда в центре внимания социологии. Сначала институционалисты (Т. Веблен), критикуя утилитарный подход экономистов к потреблению, показали демонстративный характер потребления — через потребление вещи индивид воспроизводит свой социальный статус, и таким образом потребление служит инструментом закрепления социальной дифференциации в обществе (особенно показательно «подставное» потребление — студент гордится своей дорогой и блестящей машиной, которую купили ему родители, и ему невдомек, что он ни при чем — все это проделки социального расслоения общества, которое так демонстративно фиксирует различия между семьями). Кроме того, потребление становится активным модусом социальной жизни — люди раскрываются не через труд, творчество или профессию, а через потребление — shopping, они занимаются потреблением как любимым делом, формируя свою схожесть и отличие в процессе выбора товаров и услуг. Все разговоры в обществе потребления строятся по типу — кто, что и за сколько купил и очень доволен/не доволен. Человек по своей сущности становится не охотником, не собирателем, не производителем, а потребителем — все в его жизни сделано другими и для других, а его задача — только выбор. Через процесс потребления человек конструирует свою идентичность и представляет посредством вещей свое «социальное Я» другим, со-
циальная роль дополняется типичным для нее набором вещей. Затем начиная с 60-х годов XX в. постструктурализм (в лице Р. Барта и Ж. Бодрийяра) раскрыл, что потребляются в обществе не товары или услуги, а символы. Символическое потребление приводит к тому, что и обществе потребления под влиянием рекламы покупаются не товары, а торговые марки, да и сами товары уступают место услугам и «чистым» символическим продуктам — «жизнь растворяется в телевидении», говорил Бодрийяр, а сейчас и в сети Интернет, и в мобильных телефонах, которые соединяют все в одном — и телевидение, и Интернет, и непосредственное общение. Виртуальное заменяет реальное, становится более важным, чем реальное, люди жертвуют своей жизнью ради «сплетен о жизни», как говорил Анри Бергсон (о языке). «Но где же справедливость?» — спросите вы. Действительно, в производстве и потреблении общественных отношений ее нет в явном виде, она появляется в обмене и распределении. Как говорят, справедливость там, где начинают делить. Когда делят, возникает фигура другого, складывается отношение «Я» и «Другой», как красиво написал Умберто Эко: «Этический подход начинается, когда на сцену приходит Другой» («Пять эссе на тему этики»).
Социология обмена, представленная сначала Г. Зиммелем и М. Моссом, нашла свое развитие в теории Дж. Хоманса и П. Блау. Смысл социологической интерпретации обмена хорошо выразил Зим-мель в «Философии денег»: экономисты «узурпировали» понятие обмена, считая его по природе экономическим, в действительности же обмен в самом общем виде — процесс социального взаимодействия, и нем один индивид, жертвуя чем-либо в пользу другого, приобретает для себя некое благо (сейчас самый распространенный пример социального обмена — разговоры по мобильному телефону, т.е. обмен информацией, как правило, ненужной; это процесс бесцельный — так, ради удовольствия общения). При этом в обмене происходит возрастание субъективной ценности блага — каждая сторона приобретает для себя нечто более ценное, чем то, что теряется (в экономической теории обмениваются блага, эквивалентные по стоимости, — «шило намыло», поэтому и не ясна мотивация обмена). Зиммель также подчеркивал значение фигуры «другого» в процессе свободного обмена — каждая сторона признает другую как равную себе, в этом смысле появление обмена означает движение в сторону справедливости. Мосс обратил внимание на социальную функцию обмена — он конституирует социальные отношения, например, любой подарок выражает и символизирует отношение одного индивида к другому, прием этого подарка и обрат-
... ............. ччнИЩНП -
ГЛАВА 2. СПРАВЕДЛИВОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.1. Социологическое понимание справедливости


 ный дар подтверждает это отношение, повторный подарок закрепляет социальное отношение — так из дара-обмена складывается общество. Хоманс затем показал, как из взаимного обмена деятельностью между индивидами складывается социальная группа {«human group»). Символический интеракционизм (А. Шюц, Г. Блумер) представил общество как систему символического обмена.
ный дар подтверждает это отношение, повторный подарок закрепляет социальное отношение — так из дара-обмена складывается общество. Хоманс затем показал, как из взаимного обмена деятельностью между индивидами складывается социальная группа {«human group»). Символический интеракционизм (А. Шюц, Г. Блумер) представил общество как систему символического обмена.
Если общество — это система обменов, то в этих обменах появляется всегда фигура «другого», или «чужого», в противоположность своему «Я». Необходимо оценивать действия контрагента и подстраивать свое поведение к реакции другого. Результат обмена требует осмысления, оценивания и меры — для этого и нужна функционально справедливость. Еще Аристотель увидел эту справедливость в обмене (коммутативную справедливость), но поскольку рынок не был основным институтом античного общества (даже пространственно сначала рынок всегда размещался как нечто чуждое и странное за воротами города), то для Аристотеля главной была дистрибутивная справедливость и справедливость воздаяния. Итак, фигура другого в обмене призывает к жизни справедливость, но теперь и собственное «Я» в обмене выступает в качестве «Я-как-другой». Это придает справедливости характер взаимности — при разнонаправленных интересах необходимо достичь согласия и компромисса (более подробно об этом можно прочитать у Поля Рикера в книге «Я-сам-как-другой»).
Что касается распределения, то ему «повезло» меньше других — на него почему-то социологи не обращали должного внимания. Экономисты изучали в основном распределение доходов и богатства и, надо отдать им должное, совершенно правильно связывали доходы и общественные классы. Смит утверждал, что заработной плате, прибыли и ренте соответствуют три основных класса — класс рабочих, класс буржуа и класс землевладельцев, а Маркс на основе своей теории распределения — теории прибавочной стоимости — правильно уточнил, что основных классов в индустриальном капиталистическом обществе только два — наемные работники и капиталисты. Еще Маркс очень точно показал, что социальная структура теперь формируется по экономическому принципу. Интересно, что российские марксисты М. И. Туган-Барановский и С. И. Солнцев в разработанной ими «социальной теории распределения» утверждали по сути противоположное Марксу — именно социальная и политическая борьба классов по поводу дележа прибавочного продукта формирует экономический характер распределения.
В социологической науке М. Вебер одним из первых в «Хозяйстве и обществе» указывал на важность отношений распределения в описании
социального порядка: с его точки зрения между основными социальными группами распределяются не только доходы и собственность, но И власть, и престиж. Так формируется неравенство между социальными группами, которое воспроизводится и закрепляется в социальных отношениях. На долгое время категория «неравенство» стала основной В дискурсе социологии. Затем социология добавила еще много того, что не поровну распределяется в обществе, — это права и обязанности, статусы и роли, здоровье и смерть, социальное время и пространство, знания и возможности, доверие и безопасность и т.д. Поэтому и социальные классы стали рассматривать релятивистски — классы, как утверждал Бурдье, это не индивиды, объединенные каким-либо объективным признаком (доходом, например), а способ отношения одних индивидов к другим, и тогда в игру различения вступают такие факторы, как стиль жизни, вкус, вид спорта и т.д. Обратите внимание, что класс богатых, как и раньше аристократия, всячески затрудняет проникновение nouveau riches в свои ряды — чтобы быть своим, надо не просто обладать состоянием, но надо уметь говорить определенным образом, знать то, что положено, обладать манерами в общении с равными и низшими (снисходительно, но свысока), иметь то, что принято считать вкусом, быть умеренным в питании, ну и, наконец, last but not the least — отличить айрон от вуда.
Социология, будучи по своей природе функционалистской наукой (если что-то в обществе существует, то для чего?), определила и функциональное назначение (неравного) распределения — оказывается, как считали Кингсли Дэвис и Уилберт Мур, через стратификацию (и неравенство), т.е. распределение индивидов по социальным слоям, происходит формирование общего порядка в обществе, а всякое упорядоченное общество в противовес хаосу более эффективно. Кроме того, стратификация обеспечивает мотивацию действия — те, кто внизу, хотят подняться наверх, а те, кто уже там — «эй, вы, там, наверху!», — всячески хотят удержаться. Но распределение — это процесс, оно постоянно меняется, и социальная конкуренция ведет к перераспределению социальных позиций и социальной мобильности. Пи-тирим Сорокин в работе «Социальная мобильность» (1927) настаивал на том, что нет и не было обществ абсолютно закрытых к передвижению индивидов по «социальной лестнице» как внутри групп, так и между ними. И далее, в других работах Сорокин утверждал, что в истории не было обществ, в которых порядок сохранялся длительное нремя: история обществ — это скорее история войн и беспорядков [4]. Общества находятся в постоянной флуктуации — все время пытаются
ГЛАВА 2. СПРАВЕДЛИВОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.1. Социологическое понимание справедливости
наладить порядок из беспорядка, поэтому и ресурсы распределяются и перераспределяются.
Но вот то, что, кажется, социология (за исключением Вебера) упустила из виду, рассматривая общество как систему распределения и обменов, — это ценности и оценивание. Взаимодействие людей — это не столкновение шаров на бильярдном столе, когда-то удачно заметил Норберт Элиас. Человеческое взаимодействие — это процесс, в котором каждый последующий шаг будет зависеть от предыдущего. Люди осмысливают, оценивают и подстраивают свои действия к действиям других. Причем осмысливание происходит с помощью других — если поглядеть со стороны, то люди только и делают, что символически описывают свои действия другим (выставляя себя зачастую в лучшем свете) и ждут необходимой реакции других — так жизнь человека превращается в рассказ от первого лица, а общество — в коммуникацию (от того же лица). Коллективная (интерсубъективная) маркировка и оценка действий, событий, происшествий крайне важна для построения стратегического социального действия, без нее индивид теряет ориентацию в социальном пространстве, но наготове и в помощь ему (под рукой, так сказать, at hand, как учили этнометодологи) есть система ценностей, принятая в данном обществе и в данной социальной группе (классе или нации). Вступая в социальные отношения, конечно, индивид и не подозревает о конечном результате этих отношений для него, тем более об общественных или исторических последствиях, но это не означает, что он не планирует свои действия и не оценивает ситуацию (до и после). Вебер, когда определял социальное действие, указывал, что это действие обладает смыслом и ориентировано на другого. Что означает смысл действия? Это не только чувственное восприятие {perception), ощущение (sensation) и построение смыслового образа {sense), но и цель (по отношению к средствам и мотиву), и ценность действия. Поэтому Вебер в качестве основных типов действия для современного общества выделяет целерациональное и ценностно-рациональное действия. Тогда общественные отношения распределения — это не только объективный (в смысле, не произвольный, а закономерный) общественный процесс, но одновременно и процесс осознания перспектив и оценивания результатов этого распределения. Вот для этого оценивания и необходимо в социологии понятие справедливости. Справедливость в социальном действии предполагает «другого как каждого» (это определение я заимствую у Поля Рикера) и выступает мерой в оценке действия и его результатов. Например, соответствует ли распределение благ или почестей заслугам (или рангу) индивида в социальной общ-
ности? Педро Третий Арагонский в «Ordinations» 1344 г. требовал, чтобы различия в ранге были соблюдены с большой точностью при сервировке королевского приема: «...поскольку справедливо при предоставлении услуг, чтобы одним людям оказывали больше почестей, чем дру-им, исходя из их положения, мы желаем, чтобы на наш поднос nolo ж или еды, достаточной для восьми человек», еды на шесть человек I кдовало положить на поднос, предназначенный для принцев королевской крови, архиепископов, епископов; еды на четверых — на подносы других прелатов и рыцарей, которые сядут за королевский стол, и т.д. [5]. Забавно, не правда ли? Но замечательно то, что в этом пассаже явно проявляется и принцип справедливости (так, как его понимали во времена Педро Арагонского): справедливо, чтобы одним людям оказывали больше почестей, чем другим, исходя из их положения. Таким обра-юм, распределение зависело от социального положения индивида на социальной лестнице. Средневековый рыцарь или придворный имели обязанность тратить не считая — так достойно выглядит эта привлекательная обязанность с высоты нашей меркантильной и бухгалтерской рациональности. Ну а если деньги заканчивались? А на что тогда милость короля? В нашу капиталистическую эпоху все по-другому: наше социальное положение случайно, оно зависит от экономической конъюнктуры. Напомню слова Маркса: разорившийся дворянин оставался дворянином (ему пристойно вести тогда скромный, но все же праздный образ жизни), а вот разорившийся буржуа — нет. Капиталист получает свое социальное признание только благодаря капиталу и его функции. Итак, если общество — это система распределения и обмена, то понятие и чувство справедливости необходимы как мера в оценке процесса и результатов распределения и обмена.
Когда появилось и закрепилось понятие справедливости в истории человеческих обществ? Вряд ли сложные отношения «я и другой», «я-сам-как-другой» были возможны в примитивных обществах. Спенсер в своей органической теории справедливости предлагал даже выделять «до-человеческую справедливость» («sub-human justice», кстати, и в самое последнее время предлагается распространять справедливость на животных, по крайней мере, на наших ближайших родствен-ников — обезьян). Я не думаю, что это правильно. Первичные отношения «механической солидарности» и этноцентризма не предполагали другого, кроме как врага (бушмены, которые в XIX столетии еще мало были знакомы с белыми людьми, полагали, что существуют другие бушмены — «плохие», «злые бушмены», ну а белые — это скорее опасные животные, чем люди; но даже и в XVI столетии белые пере-
 ГЛАВА 2. СПРАВЕДЛИВОСТЬ ОБЩЕСТВА
ГЛАВА 2. СПРАВЕДЛИВОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.2, Справедливость античного общества





 селенцы не знали, как относиться к американским индейцам, к какому классу существ их относить — к людям или диким животным, но католическая церковь, отдадим ей должное, быстро определилась с этим вопросом, закрывая глаза даже и на смешанные браки). Поэтому и понятия/чувства «справедливость» (так, как мы его примерно представляем и понимаем) и не существовало в первобытных обществах. Причем сложные отношения распределения (и перераспределения добычи) и обмена, безусловно, существовали в этих обществах, но они четко и однозначно регулировались традицией или обычаем, отклонение от которых (или какое-либо самостоятельное решение) было вряд ли возможно. Поэтому не требовалось и оценивание действия другого с позиции рациональной меры — справедливости.
селенцы не знали, как относиться к американским индейцам, к какому классу существ их относить — к людям или диким животным, но католическая церковь, отдадим ей должное, быстро определилась с этим вопросом, закрывая глаза даже и на смешанные браки). Поэтому и понятия/чувства «справедливость» (так, как мы его примерно представляем и понимаем) и не существовало в первобытных обществах. Причем сложные отношения распределения (и перераспределения добычи) и обмена, безусловно, существовали в этих обществах, но они четко и однозначно регулировались традицией или обычаем, отклонение от которых (или какое-либо самостоятельное решение) было вряд ли возможно. Поэтому не требовалось и оценивание действия другого с позиции рациональной меры — справедливости.
На мой взгляд, историю справедливости надо начинать с древних обществ — когда появились рабство как общественное отношение и рабовладельческое общество-государство. Ведь существенный прогресс (настоящую революцию) в человеческих отношениях составило принятие «другого как своего» — раб (famulus), если это не был случай долгового рабства, представлял фигуру чужого (и чуждого — часто просто бывшего врага), которая интегрировалась в систему патриархальной семьи и более широкого социального сообщества (например, античного полиса). Только в противовес рабству как противоположность появились понятия и чувства свободы и равенства в античности как основание справедливости. Кроме того, возникновение государства, управляемого законами, и превращение человека в гражданина (равного с другими гражданами) формировали понятие долга перед законом и людьми — так справедливое связывалось с законным. И наконец, рыночные отношения обмена, все больше и больше разрушавшие натуральный характер патриархального хозяйства, ставили вопрос возмездных и эквивалентных отношений с другим с точки зрения учета общих (а не только своих) интересов. Обмен по своей сути — это соглашение, в нем психологический аспект агрессии — желание силой отнять вещь у другого — подавлялся за счет понимания и принятия интересов другого (и я сам понимался как другой — ведь противоположная сторона также должна была учитывать мои интересы), для этого необходима была идея справедливого обмена, т.е. правильного (по определенным правилам) учета интересов другого, превращения системы обменов на этой основе в постоянную и бесперебойную. Вот так три фактора — государство, рабство и рыночный обмен, — появившиеся в развитом виде только в эпоху древних обществ, способствовали появлению идеи справедливости.
В Древнем Египте, Индии и Древнем Вавилоне (и других развитых древних государствах) были определены понятия закона и справедливости. Например, бог света и справедливости Митра — одно из древнейших божеств индоиранского пантеона. Время возникновения культа Митры — 2-3 тыс. до н.э. В двух древнейших религиозных памятниках (в иранской «Авесте» и индийской «Ригведе») Митре посвящены гимны, где воспеваются его справедливость, «всеведение» и неустрашимость. Считалось, что Митра был послан высшим божеством на землю, чтобы сражаться с темными силами, возглавляемыми злым божеством Ариманом. Митра убил олицетворение зла — темного быка, из его крови и мозга сотворил полезные для людей растения и животные. После своих подвигов Митра вознесся на небо, но в конце существования земного мира Митра вновь спустится на землю, уничтожит огнем злых людей, а добрым даст напиток бессмертия. День рождения Митры отмечали 25 декабря, его почитатели омывались чистой водой, приобщаясь к богу в трапезе «священным» хлебом и вином (ничего не напоминает?). Митра, чье имя, как считают, переводится с авестийского языка как «договор», с санскрита как «друг» (т.е. второй участник договора, а в русском языке это «товарищ», от слова «товар»), являлся божеством государственной важности. Персидские цари (Кир, например) чтили Митру и клялись его именем, а римляне после восточных походов тоже весьма полюбили его. Но с научной точки зрения (которая появилась в эпоху античности) мы знаем, как толковалась тогда справедливость, только из текстов греческих авторов — Платона и Аристотеля. Лишь у них можно найти определение справедливости, ее классификацию и в целом — развитую аналитическую концепцию справедливости.
Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 295; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |