
КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
ПатьЧе1"РС " М"С НаДо ыть там' теРпеть руководить, раздавать деньги, тре-домНеР"1'1 Опять придётся кланяться, просить квартиру. Ах, мати божья!..
П«„ о Мосм успении ешё никто ничего не знает. Постепенно готовить — изведутся Кс
Двум "' "сРес !Д 15 нашем возрасте, при нашем барахле уж и не просто пожарам, а землетрясению равен... ™У никто как Бог.
У в п Ь1бо'' этои мучения мои всё не кончаются. Только недавно сдал кни-гс,нови'1"ОЛСПЮ В "0Л- гваРдии' как ТУТ же узнал, что в «Роман-газете» Их врем " '"'"1ул" -Уже И} производства даже сокращённый вариант. До луч-отя я и и' 1 оноРят. Кто остановил? Кто говорит? Ныне ничего не узнаешь,
Я УЖео1аДЫВаЮСЬ' КТо И откуда и даже почемУ-? Нег1ре.мс1 ' ""0 ""'10о 110 пишу — некогда. Надо бы заканчивать «Поклон» "о нынче, а я никак ладом за стол не сяду. Суета засосала, затя-
Журналиста морали, и, думаю, Серебряков не позволяет себе вес-ввтского руГОМ местб1 в Москве, например. А он и после инцидента тИ себя п1 сСбя в доме творчества вызывающе, курил в вестибюле, не-ироЯолк" ,.ПРСТы. если говорил, то на весь зал, если сидел, то непременно Сотря на !" 1 ж ояливи'ись.
а ' твые п жизни и за двадцать с лишним лет работы в литературе я при-такому прискорбному «творчеству», ибо впервые был так оскорблён {"еГаЮ •н Я не требую извинений от Серебрякова — трижды раненный фа-(И УнИ } сяшиком хорошо знаю цену тем ранам, а нанесённые публично — Г1ИСТ'и\1 ничтожна. Но настаиваю, чтобы Серебряков письменно извинился цена мосЮ женою — Марией Семёновной Астафьевой, по адресу: г. Волог-"а'Л Пенинградская. 26. кв. 12. И ещё надеюсь, что главный редактор «Ли-Д ' турной газеты», партийная организация редакции напомнят своему сотруднику об этике журналистской и человеческой.
С уважением. Виктор Астафьев, член правления СП РСФСР
нула, будто в улово. И дома, в Сибири, побыть не соберусь, а уж снится и Си бирь. и Тунгуска, как я и предполагал. Комары, гнус, холод — это всё памят отмела, будто литературный лакировщик высветил природу, время, на рек проведённое, берега, воду, горы, людей...
А когда поеду — не знаю. Прежде надо ехать лёгкие лечить. И башку. Бо леть стала, курва. Давление прыгает. Нуда годы ведь уже немалые. Чего спро сишь с войны? Новой не было бы хоть, одно и утешение и надежда.
Ну вот и накарябал маленько, между всяких дел. Кланяюсь твоей много численной семье!
Обнимаю тебя — Виктор Петров сын.
А папа с прошлой осени живёт у меня. Оставил его тут одного в деревне он ка-ак загулял — это в семьдесят-то пять лет. Неисправим бродяга!..

Дорогой Валентин!
Какое-то наитие. Днем был в молодёжной газете, что-то разговорился о Чусовом и проговорил почти полдня, тут только и обнаружив, как ярко отпечатался и город, и
время, в нём прожитое... А ешё говорим: «благодарность», «неблагодарность»... По отношению к Чусовому мне в пору петь: «Мне б надо Вас возненавидеть, а я. безумец. Вас люблю!..»
Словом, пришёл из редакции, а от тебя письмо. Не ответил сразу, пло с внуком, плохо дома. У малыша уже полтора — полтора! — месяца не мо остановить понос, и я, долго державшийся, тоже начинаю впадать в пани Всё. что в наших силах, не таких уж сильных, сделано, и тшетно. Везти мальчика в Москву боюсь. Боюсь, что повторение анализов, новое голодание доконает его натуру, удивительно стойкую, мощь какую-то недетскую. Мальчик, голодающий так долго, так долго страдающий от болезни, уколов, душной палаты, горьких лекарств, всё ещё всем, а в особенности нам. радуется, улыбается и даже от уколов не орёт. И только гнётся и по-взрослому ойкает. По сей причине не вступаю я ни в какие с тобой литературные дискуссии — башня сдвинута, я уже и позабывать стал о какой-то «Царь-рыбе». Прочёл тут в «Литературном обозрении» (фанки-то читал на бегу в Москве) и удивился: «Гля-ди-ко. кого-то и задело за живое»...
О Гериеве только так и возможно было написать в «Царь-рыбе», тронь я эту коросту сильнее и глубже, другую ж книгу пришлось бы писать.
Не попадалась ли тебе книга В. Фомина «Пересечение параллельных»? Фомин этот — киновед, и книга его о кино, о близких нам людях. Он не только кончил тот же факультет, что и ты. но и похож на тебя многим, в том числе и бородой. Они приезжали ко мне в Сиблу со сценарием — «Мосфильм» экранизирует «Перевал». Картину будет снимать Булат Мансуров — порядочный, по-моему, мужик и работяга. Снять должны летом 1977 года. Я продал право на экранизацию, но чем могу, помогаю.
Теперь о Васе Белове. Я последние его веши не читал, но читал предпо-:ледние. Тревогу твою вполне разделяю, тем более чго сам он абсолютно не
щаст, что давненько уж находится в творческом кризисе и пишет не то, что
бог велел, а людей, которые бы ему это сказали иль написали, возле него нету. Вологодские-то люди — лукавые, они и не скажут никакой горькой правды. Сам Вася тоже из вологодских, хвалится, что в институте пять лет А,1Л в одной комнате с человеком и не сказал ему, что он бездарен, а вот мы, нехорОШИе, такие-сякие, сказали. А тот. надсадившись от бесполезного и графоманского труда, рано умер, а точнее, просто пропал, а всё же Вася никому нс признаётся, что усугубил все дело, помог товарищу, русскому человеку СКОПЫТИТЬСЯ своим блядским молчанием. Я уж давно раскусил эту вологодскую доброту, она страшнее жестокости.
В «Молодой гвардии», в редакции «ЖЗЛ», заведующим работает Юра Село шёв. очень хороший человек. Я просил его. чтобы он давал тебе что-нибудь на рецензию. Народу у него пребывает дополна, суета заедает, может, и забыл, так напомни ему словесно иль письменно, что я ходатайствовал. Ко мне он хорошо относится.
Моя мечта, если внук выздоровеет, закончить «Последний поклон». В с поирь мне не удалось и нынче съездить, но недавно съездил на неделю ешё ра 1 в ГДР. пригодится в будущих писаниях о войне.
Из Сиблы я бежал рано. Лета не было. Осень была плохая. Я никаких сил не набрался. От сырости ноет всё.
Вот пока и всё. Всем поклоны. И с Новым годом! Едва уж соберусь написать. Будьте все здоровы! Ваш Виктор Астафьев

Дорогой Виктор!
Привет тебе. Тоне и фалу Чусовому. который я вспоминаю часто, и недавно по какому-то поводу и тебя вспоминали. Наитие! Я с удовольствием прочёл твоё писание, ибо о рыбалке, да ешё об Усьве. да ещё о хариусах! ещё и читать-то удовольствие. Беллетристикой, да ещё серой, я уже сыт по горло.
Пятнадцатого декабря редколлегия журнала «Наш современник», там зре-1" предложение дать что-то по поводу «Царь-рыбы», то есть дать разные материалы, пришедшие после этой повести. Я предложу прочесть и твой материал. Если не выйдет, надо будет его послать в «Уральский следопыт», я это 11 сделаю. Но вообше-то надо тебе сказать, после появления этого материала "сякого рола туристы вовсе одолеют Усьву и всё пожгут и побьют, и обхарка-- гурист стал бедствием для нашей многострадальной природы. Мария Семёновна гоже шлёт вам поклоны. А я, прочтя твою страничку, нежно и с грустью вспоминал, как мы рыбачили на Яйве и как отпустили шу-кУ-крокодила. Сейчас смешно и отрадно вспоминать всё это, ибо ничего в жизни лучше-то и нет. как обшенис с природой — рыбалка, охота. К сожалению, время моё уходит на деда совсем иного порядка, на какие-то заседания, никому не нужные поездки, чтение рукописей, преимущественно убогих, на '"мен.!, бытовую суету.
У меня развилась и сильно меня мучает хроническая пневмония — зимой на рыбалке почти не бываю, а тут всё лето лил дождь, приостановился было в октябре, в ноябре снова начался и до сей поры — сырь, мразь. Утром едва поднимаюсь с постели.
Сын Андрей работает в Чердыне, в музее, с Уралом не расстаётся. Дочь здесь работает, сделалась матерью, да вот мальчик тяжело болеет, она лежит с ним в больнице, но дело, слава богу, пошло на поправку. Сейчас вот собираемся с Марией Семёновной навестить их в больнице.
Ваш В. Астафьев
Благодарю вас за письмо и за добрые слова о моей работе! Желаю успехов всем и в частности литературному кружку вашей школы. Вы, наверное, знаете из биографии, что я тоже когда-то участвовал в школьном рукописном журнале и «творчество» моё началось именно там, в школе.
К сожалению, я не могу сейчас приехать в Череповец — нездоров, а почты и дел скопилось очень много, ибо только что вернулся из ГДР, где проводилась Неделя советской книги. По этой причине и на вопросы ваши отвечу коротенько.
Люблю классическую музыку. Больше других музыкальных произведений люблю Первую симфонию Калинникова, концерт для фортепьяно с оркестром Грига, «Реквием» Верди, увертюру к опере Вагнера «Тангейзер» и вообще всю оперную музыку люблю, любовь к которой привил мне воспитатель детдома Василий Иванович Соколов (прототип Репнина в повести «Кража»).
Писатель, как и всякий серьёзный читатель, с возрастом меняет свои привязанности — первой прочитанной в жизни книгой и долго мною любимой была «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо, потом любил всё то, что любят все дети. В молодости обожал Тургенева, в особенности его роман «Рудин». Затем «переметнулся» к «Мартину Идену» Джека Лондона. Постепенно дорос до русской классики и добрался до Льва Николаевича Толстого, до Бунина и до Достоевского, который уж многие годы был и остаётся моим кумиром. Если говорить о книге, которая меня «перепахала», так это, прежде всего, «Братья Карамазовы» Фёдора Михайловича.
Сейчас начинаю снова открывать для себя Пушкина и Гоголя и вновь, уже взрослым умом, поражаюсь их гению, их недосягаемости...
Недавно вышла моя книга с повестями «Стародуб», «Кража», «Пастух и пастушка» в издательстве «Художественная литература», которую предваряет моя статья «Стержневой корень». В статье вы найдёте более подробные ответы на все остальные ваши вопросы, а я прощаюсь с вами и ещё раз желаю всем вам всего доброго и хорошего!
Виктор Астафьев


Дорогой мой лесной опёнок! Тебя и всех твоих юровичей поздравляю с Новым годом! Здоровы все будьте! А тебе пусть хорошо пишется и по-лесному хорошо дышится! Я много тебе не пишу, всё недосуг. Ночью еду в Москву на редколлегию, пленум и т. д. Лишь позавчера выписали внука из больницы, и лишь вчера начало подмораживать, а то всё было мокро, мерзко, кисло. Целый год мокреть! Ешё один такой год, и мне с моими лёгкими можно писать завещание.
Нервишки мои на пределе, весь я раздражён, всё во мне дрожит до последней клеточки, не пишу «для себя» ничего, но всё время в работе, всё время суета, нервотрепка, которую усугубляет и увеличивает моя преподобная супруга, умеющая нагнетать в доме панику и мрачность бесконечную. Одна у меня надежда отдохнуть от жены, от детей, от телефонных звонков, каких-то суетных дел — съёмки фильма «Перевал» вроде бы намечаются на моей Родине, уехать бы на всё лето с киношниками, спрятаться от всего и постепенно подготовиться к переезду на Родину. Здесь я больше жить не могу — скверно, грустно, не родно!
Ну ладно, не буду нагонять на Вас тоску — везде и у всех свои проблемы и беды.
Обнимаю тебя, твой Виктор Петрович

Дорогой Николо Христов! Пишет Вам из далёкого русского города Вологды русский писатель Астафьев. Не знаю, насколько точный Ваш адрес дали мне в журнале, но, надеюсь, письмо моё найдёт Вас.
Я с большим волнением и болью прочёл Вашу «Колючую розу» в журнале «Иностранная литература». Сам я родом сибиряк, моё родное село близко от Красноярска. Вырос на берегу Енисея и с детства научился почитать и любить нашу родную природу, и, когда начал писать — в 1951 году на Урале, — тема природы заняла главенствующее место в моей работе. Вот почему мне так близка и понятна Ваша боль и Ваше страстное слово в защиту природы. Вы совершенно точно назвали одну из причин такого тревожного положения на земле — человеческая беспечность, от которой до преступности всего шаг, и шаг совсем небольшой.
Я недавно закончил большую повесть «Царь-рыба», она напечатана в 4—6 номерах журнала «Наш современник» и должна скоро выйти в сокращённом "иде в «Роман-газете». Большинство глав-рассказов в повести как раз о человеческой беспечности и безответственности за себя и за свои поступки. Особенно безответственно ведут себя люди в тайге сибирской, ибо кажется им, ,,то она нескончаема, вечна и сколько бы её не тиранили — конца ей и её ТсРпснию не будет. То же самое, наверное, думают люди, истребляющие джунгли Амазонки, — они так широки и дики, что создают обманчивое представление о неисчерпаемости земных богатств.
В Болгарии у меня выходило несколько книг, слышал, что начинается издание двухтомника. Может, что-то и попадалось Вам на глаза. Буду рад, если мои чувства и моя боль перекликнутся с Вашими чувствами и с Вашей болью, ведь живём-то мы все на одной земле и заботиться о ней надо бы всем людям, но пока очень и очень многие не понимают, что пилят и уже опасно подпилили сук, на котором сидят. У нас тоже пока больше тревожатся и заботятся о природе пишущие люди и учёные. Люди же, непосредственно занятые работой на земле, в лесу, в недрах земных, машут на всё это рукой: «На наш век хватит!..»
Мы свой долг посильно исполняем, но, думаю, недостаточно страстно делают своё дело многие пишущие люди. Все бы вот писали так, как Вы свою «Колючую розу», наверное, скорее заставили бы задуматься человечество о своём будущем.
Ещё раз благодарю Вас за великолепную прозу. Желаю Вам доброго здоровья, а людям земли — благоразумия!
Кланяюсь Вам с почтением. Виктор Астафьев
с редактором областной комсомольской газеты, очень славным парнем, мы и зимогорим. Питание готовое, уединение, тишина, он пишет повесть, а я вычитываю большую и сложную вёрстку сборника. Там всё новое, и «Царь-рыба» более или менее на себя похожая. Дай Бог, чтобы комитет по охране природы делал бы столько. Десять дней вычитывал, подправлял, и осталось у меня два дня на письма, а потом мы с М. С. поедем на недельку в Ленинград. Пало хоть встряхнуться, повидаться с однополчанами — вымирают, посетить могилку Вити Курочкина, товарища по перу, которого я не хоронил из-за текущих дел. И один или два раза выступить в Союзе писателей, в университете или на телевидении. В Ленинграде у меня больше всего читателей, судя по письмам, и читателей чутких, доброжелательных. А тут, в связи с «Царь-рыбой», такой читатель из подворотен вылез, такое воспитанное мурло, интеллигентно себя понимающее. Он в школе вызубрил две цитаты — «Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно стыдно...» и «В человеке всё должно быть прекрасно...», а сам, сука, всю жизнь в казарме или на эсминце пил кровь из подчинённых, обогащал свою квартиру, наряжал в панбархат бабу-дуру или воровал с баз. Конечно, прав Стасов: «Укус от клопа не смертелен, да вонь от него преотвратительная».
Я вроде бы расчистил время от всякого хлама и могу начинать писать остальные главы «Последнего поклона». Вот съезжу в Ленинград, вернусь в эту Убогую и тихую обитель и махом напишу две главы (две начерно написаны), а потом уж дома и где угодно буду доводить до ума их и перелопачивать всю книгу.
В пятом номере «Роман-газеты» в сокращённом виде идёт «Царь-рыба» — продрала все невода и мережи на своём пути. Не давать стало невозможно, велик резонанс, сильно пошла за кордон, а ведь написана-то лишь частица, капля из великого моря человеческих страданий и безобразий, чуть тронута вопросом тема — отчего это люди так одиноки? Ожидалось же всё наоборот — братство, всеобщая гармония, согласие и пр., и пр., а тут вон как пошло.
Как много дала мне та поездка по Оби! Спасибо тебе за неё дальним числом и поздним временем.
А в Туркмению нам весной, наверное, не попасть. Заказал я путёвки в


Дорогой Вадим!
Пишу тебе из-за города, из дома отдыха, где есть зимний пустующий домик журналистов. Вот здесь, с Нового года, вдвоём

Уважаемый Илья Григорьевич!
Не так уж часто мне, бывшему солдату, приходилось вступать в контакт с генералом, да ешё и благодарить его за тёплые и разумные слова. Делаю это с моим преогромным удовольствием. Спасибо и за то, что не даёте утвердиться во мнении, будто все военные у нас — дубари. А они словно бы и гордятся этим. Одно из первых ругательных писем на «Царь-рыбу», посланное не мне, а в «Правду», было от работника Северного морского флота, как он себя аттестовал, не допускающего, судя по тону письма, иных мнений, кроме своего, чина немалого. Отругал я его письменно, а теперь уж и каюсь: не он, воспитание виновато, казарма — не лучшее место для интеллектуального развития и самоуглубления.
...А днями я начерно закончил заключительные главы повести «Последний поклон». Работа продолжалась в течение двадцати лет! Прощаться с нею и радостно, и грустно. Но надо. Начал уставать от книги, и, стало быть, срок её кончился. Она как бы предваряет «Царь-рыбу». Вторая и первая книги вместе должны будут выходить в 1978 году, вроде бы в издательстве «Современник».
Ну, ещё раз благодарю за доброе слово и, как на фронте говорили в ответ на похвалу старшего по званию: «Служу...» Кланяюсь, Виктор Астафьев
ОДА
Ялту, надо лечиться, с лёгкими у меня неважно. Прошлый год мокреть с апреля и до последних чисел декабря вовсе довела меня. Я мало двигался, стал ещё тучнее и часто терял работоспособность, а с нею вместе и присутствие духа.
Сейчас вот отдышался, да и внучек наш, слава Богу, уже гулять его носят, кушает, горгочет, хулиганит, один раз уже из телеги вываливался и башкой об стол — всё путём...
В мае начинаются съёмки фильма по моему «Перевалу» на моей родине. Делает фильм бывший работник ашхабадской студии (мир тесен!) Булат Мансуров. Его фильмы — «Жажда», «Рабыня», «Состязание» и др. Мужик он скромный, работящий, и фильм по моей повести для него площадка, с которой он должен пересесть и закрепиться на «Мосфильме» (объединение Райзмана, великолепного, кстати, человека, скромного и отзывчивого). Я на всё лето хочу уехать со съёмочной группой на родину, отдохнуть, отдышаться и решить вопрос с переездом — стоит, не стоит.
Впереди у меня много кропотливой работы: сценарий, доделки — в 79-м году «Худ. литература» намеревается издать двухтомник, в 80-81-м, если не напишу куда-нибудь ругательное письмо, начнётся издание собрания сочинений в четырёх томах в «Молодой гвардии».
Ну вот, очень рад, что выбралось время тебе написать более или менее подробно, а то засуетился вконец.
Тебя обнимаю, желаю доброй работы. Твой Виктор Петрович
Дорогой Вадим!
Ну вот, давненько тебе не писал, приспела оказия — «лауреатская» книга. Шлю её и маленькую писульку, в коей сообщаю, что со скрипом, но закончил начерно «Последний поклон». Сейчас тс из четырёх глав М. С. печатает на машинке для дальнейшей работы. Одна вроде бы получилась, а вот как последняя, ешё не знаю. Внук ей особо-то не даёт заняться делами. И вообще всю семью держит в весёлом возбуждении, такой разбойник стал!
Я очень устал от работы и переделок, сделался вял, и вернулась ко мне давняя гостья — цинга. Правой стороной рта уж есть не могу. Зима была суровая, и сейчас все ветра со снегом. Дважды выезжали за 200 вёрст на озеро порыбачить и оба раза едва ноги унесли — так заметает след.
Завтра мы с М. С. едем в Москву на «Мосфильм», смотреть актёрские пробы в «Перевал», и дела у меня там накопились, а оттуда я двину сразу же в Петрозаводск выступать в университете, и по приезде нашем уже собираться в Ялту надо. И мне. и М. С. хорошо бы отдохнуть. Мы порешили так — если погода в Ялте будет плохая, тогда уж плюнуть на всё и двинуть под ваше солнце, да всё не надеемся, что будет и к нам когда-то милостив Бог. Нельзя же гноить человеков так долго, хотя они того и заслужили. Вышла • Роман-газета» и уже поступила подписчикам, а мне нет. Видел мельком. Всё стало делаться у нас через жопу. Из «Лит. России» гонорар мой заслали в... Новороссийск. Книг запечатали двести штук, сам заявление писал — не прислали ни одной. Авторские шлют с опозданием на полгода, а то и вовсе забудут. Что деется! Что деется!
Стало всё безответственно, разболтанно, и пьянство, пьянство! Морс разливанное, как перед потопом.
Как вы-то живёте? У вас уже сеют — мельком слышал по радио. Ну, дай нам Бог здоровья, а «известинцы» покоя не дадут, это уж климат газет — бегать, звонить, шуметь, и выходить к читателю серенькой робкой овечкой. Обнимаю тебя. Виктор Петрович

Дорогая Маня!
Занепогодило, и я сижу дома в своих модных туфлях, а хотелось бы ещё походить по Большой Слизневке и вообще по лесу. Он сейчас здесь дивен, а горы красивы. Я часами сижу у задней калитки в огороде и смотрю на слияние двух рек, смотрю. и слёзы, будто шлак в горле... Вверху как было, так и есть: горы, вершины, "Роплешины леса, а внизу рыбак на рыбаке, моторка на моторке, все куда-то Мчатся сломя голову, всё торопится к концу своему...
Вчера я выступал в Овсянке перед учителями. С утра дождило, и я едва '"'•дюжил, едва выжал из себя улыбку на совместном фото, ибо уже знал, что Умер Миша Шахматов и меня ждут в городе на похороны. Даже тут нужен

«почётный гость», а умер он от пьянства и чахотки. На похороны я не поехал, и к родичам, и к директору в гости не ходил, пущай сердятся. Вернулся, принял димедрол и проспал часа четыре. А тут гости — Слава Сукачёв с супругой и братом. Слава богу, всего лишь на ночь. Маленько поговорили, погоревали — его тоже на курсы не взяли. Наверное, бравый чернобровый писатель-оптимист Н. Горбачёв сводит счёты из-за меня с ребятами. Подлости нет граница
Я уже собираюсь домой. Соскучился уже по дому, да и незаконченная работа мучает. Никуда не надо ездить, не завершив книгу, не свалив её с плеч. Всё время какой-то долг, всё время какой-то неспокой на душе. Хорошо, что в первые дни я «не объявлялся». А сейчас уж бежать надо: были статьи в газете, по радио чего-то трепанули, и кончился покой, даже относительный. Сегодня льёт, и потому, слава богу, никого.
Позавчера был в семье Никоновых [односельчан. — Сост.], у мамы и у сестры. Тяжёлое свидание! Неприятное! Погиб сын. Внук сидит за коллективное изнасилование, а бабушка и мама считают, что весь свет виноват, кроме него и их. Ещё один сын-пердак, 117 кг весу, прыгает в оперетке, на секретном предприятии, ибо там платят 280 рэ. Ушёл с радостью и облегчением из этого дома.
Съёмки фильма идут сейчас на запани, когда было сухо, я туда ходил пешком — отрадные дни, прелестные тропы и отдых для души. Съёмки идут к концу, и чем дальше, тем тяжелее. Половина группы уже болеет простудой, поносами — нельзя быть в экспедиции 3—4 месяца в отрыве от дома. Думаю, что многое будет скомкано, отснято поспешно в конце, но есть ещё не отснятое и в середине фильма.
Я дождусь Любу Полехину, напишу для неё какой-то текст и ещё маленькую сценку для Сковородника и Ильки и полечу домой, скорее всего 5—6 сентября. Может, полетим вместе с Булатом [Мансуровым. — Сост.\. Володя Гусев уже отснялся и улетел. Хороший актёр! Умеет работать с полной самоотдачей! Булат едва жив: руки дрожат, лицо дёргается, глаза бегают, худой — страшно смотреть. А новый директор — жалило, как паук, сидит в гостинице и караулит, кто чего натворит, и тут же «портянку» в Москву. Тут считают, и не без оснований, что его прислали, чтоб не пустить Булата на «Мосфильм» и погубить картину.
Кошмар какой-то! Люди страдают.
Ну, вот пока и всё. Послезавтра у меня выступление в «Красноярском рабочем», надеюсь, последнее. Побываю ещё в Овсянке (тётки сердятся!) и буду прощаться с киногруппой, работающей самоотверженно. В ней много хороших ребят, иначе бы всё уже накрылось. Дюжат особенно те, кто составляет бригаду. Кадочников — старик, с пневмонией, живёт на горчичниках, а как работает! Ох уж этот хлеб киношный! Кажется, горше и нет.
Ну, пока. Целую всех, я

Дорогой Валентин!
Были у меня очень запарные дни. Я заканчивал, готовил для печати, редактировал, вычитывал и т. д. «Последний поклон» —
весь! На исходе сил всё делал, почти больной от усталости и подлой погоды. Увёз книгу в Москву. Думаю, пока читают в издательстве, хоть в театры похожу. Куда там! Навалилось какое-то вороньё из газет, из полудрузей, просто людей любопытных и спать-то не дают, а тут ешё с кино надо было помогать, да и друзей-то хоть немного повидать. Трижды выступал, редколлегия журнала была и ешё какие-то дела. И все в голос: «Вы должны!» Я уж, в Академии общественных наук выступая, ляпнул, что всё время и всем должен, а мне почему-то никто и ничего...
Было пятилетие со дня кончины Я. В. Смелякова, узким кругом ездили на Новодевичье. Шёл проливной дождь, а хотелось и Александру Трифоновичу [Твардовскому. — Сост.] поклониться, и к Василию Макаровичу [Шукшину. — Сост.] завернуть. Завернул, спрашиваю: «Ты чего ж, Макарыч, в такую сиротскую зиму здесь один лежишь? Зачем тебе это нужно?..» Молчит, смотрит с портрета печально, как бы говоря: «А что делать, земляк? И ты ляжешь. Между прочим, здесь нисколько не хуже, чем у вас, даже потише маленько, и все, воистину, равны»...
Отредактировав книгу, я тут же вернулся домой, никого не навестив, нигде не побывав ладом. Не осталось сил. И начал спать и есть. Сплю и ем. Вся работа! Мне особенно сон нужен. Еда ни к чему бы. Я совсем растолстел от сиденья по 10—12 часов за столом. Я ведь и старые главы «Поклона» все перекромсал. Новые идут в следующем году в первом номере «Нашего современника».
Книжку твою, славно и на старинный лад переплетённую, получил. Поблагодарить не выбрал времени. Делаю это сейчас. Спасибо! Одну книжку отдал главному редактору «Современника» — может, переиздадут? Но им нужно листов восемь-десять, что-то придётся добавлять из других материалов, если они, конечно, не забудут. Сейчас обещания ничего не стоят.
Мечтал посидеть дома. Почитать, отоспаться и укатить в Сиблу. Если буду здоров, так и сделаю. За зиму съезжу лишь на встречу к друзьям-фронтовикам и, может, быть в Киев, на совещание писателей, освобождавших Украину. — это, наверное, будет интересно. А в остальное время отдыхать, отдыхать — усталость даже в костях гудит или поёт.
В декабре должны сдавать наш фильм. Название его так и осталось мне не к душе: «Сюда не залетали чайки» (хотя были и лучше: «Сретенье» — режиссёра, «Запах земляники» — моё). Телевиденье подбивает меня на две серии «Пастушки», уже утверждено в плане. Я сказал: «Пока не увижу режиссёра, не поговорю с ним, моего согласья нет и не будет...» Боязно!
Фетин в Ленинграде начинает подготовку к съёмкам фильма «Сон о белых горах», но это всё по чужим сценариям, а «Пастушку», если делать, то только сам. Я теперь понял точно: в сценаристах, обработчиках чужих книг околачиваются халтурщики и дельцы — таким и оказался пройдоха Трошкин.
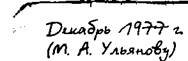
автор сценария по «Перевалу», за которого всё равно пришлось работать мн и режиссёру. Этот же режиссёр мечтает поставить «Последний поклон», во1 почему я хочу, чтоб ты посмотрел этот фильм по «Перевалу» и сказал мне -сюит ли доверять самую мне дорогую и теперь уже очень серьёзную книгу?
Посмотришь — напиши подробно. И подробно о Чусовом, ладно? Я тудг не скоро соберусь.
Внук наш Витенька хорошо растёт, потрошит всё, что может, от стег-кнартиры и до книг.
Ну. Валя, бодрый будь! Что-то меня пугнуло твоё последнее письмо.
Поклон твоим домашним от меня, Ирины и всех наших. Я обнимаю тебя. Твой Виктор Петрович
Дорогой Михаил Александрович!
Когда Вас чествовали в связи с пятидесятилетием, я находился под Москвой, в Переделкино, и хотел было тоже поехать, чтоб по-
жать Вам руку, но такая была гнусная погода, что я едва ноги волочил и, закончив работу, поскорее подался домой, где и отдыхиваюсь до сих пор.
Я сдавал «Последний поклон» в производство. Нынче это сложная процедура, много крови испортишь, пока сдашь, пожалуй, не меньше, чем в период работы над самой вешью. Ныне я всё чаше вспоминаю старую британскую пословицу: «Чем хуже дела в приходе, тем больше работы звонарю». Дела неважные, а вроде как мы виноваты — за нами следят и бдят немилосердно. Воистину: «Нигде так не боятся слова, как на Руси». Труд, который и радовал, и изводил меня на протяжении двадцати лет, закончен. Можно и дух
Перевести. Я ведь и старые главы все перетряс, подтянул и сделал новую
дакцию всей первой книги. «Поклон» теперь состоит из двух книг и как выйдет (к лету), непременно книга будет у Вас. Сибирякам дарить книги о Сибири — мне особая радость.
Сняли на «Мосфильме» и первую картину по моей повести «Перевал». Фильм называется: «Сюда не залетали чайки». К картине отношение хорошее — она очень скромная, но сделана с большим уважением к нашим людям и земле. Побывал я на съёмках. Ну и хлеб киношный! Уж наш вроде бы нелёгок и с полынью пополам, а этот не знаю с чем и сравнить. Разве что с солдатским, фронтовым — столь много надо самоотверженности, преданности и любви к этому шебутному делу.
Сейчас я упорно готовлюсь писать о войне — с этой целью ездил в ГДР, в Польшу, на Украину, и снова отправляюсь в Киев. Я воевал на Украине, там дважды ранен и вот собирают нас на той земле — поговорить за «круглым столом» о войне. За «столом-то», я знаю, путного ничего не скажут, а вот меж собой может возникнуть много интересных разговоров. О войне мне хочется писать по-своему, это трудно, но нужно.
Я посылаю Вам на память свою первую в жизни пьесу. Этот вариант я сделал после двух спектаклей — у ермоловиев и в Вологде. Пьеса была написана давно, залежалась в столе, и я не поработал над нею вместе с театрами —
не хотелось, да и самый разгон набрал в работе над «Царь-рыбой». И твори )0г нолю! Сырой материал дал возможность режиссёрам заниматься любой „тссбятиной. Вот почему я вернулся к пьесе, прибрал лохмотья, немного выстроил её «по законам». Вернулся потому, что пьеса, вернее, материал этот дорог мне тем, что всё это было в жизни и главные герои по сию пору живут на Урале, в Гремячинском районе. Я скептически отношусь ко всякого рода прототипам — автор должен убедить: «Было!» — и баста, иначе он и за дело не должен браться. Но сейчас, когда бездуховность, безнравственность вроде бы на телегу сели и ножки свесили, совершенно необходимо, на мой взгляд, поддержать в человеке всё, что способствует его здоровью, а не разрушению. Особенно русский человек нуждается в поддержке, которого вроде бы уж и с весов сбросили и приговорили к вымиранию как пьяницу или дистрофика.
Всё, что описано в пьесе, случилось в пятидесятых годах, но и сейчас есть такие люди, есть, пусть и поубыло их. А вот к написанию второй пьесы я готовлюсь уже серьёзно. Надо её написать так убедительно, чтоб у режиссёров не возникало потребности домысливать, дописывать и творить за меня. Так отвоёвывал я своё место в прозе, только работой, только убедительностью, везде много охотников подправлять, направлять — хлебом не корми, дай пожариться в рукописи.
Когда я был в Переделкино, то посмотрел последний фильм Ромма: «И всё-таки я верю», где и Вы поговорили немножко. Ночь я не спал после этого фильма, лежал в глухом коттедже, за окном шлёпала мокреть, было тихо, пустынно и длинно-длинно шло время. Какое предостережение благодушию нашему! Как далеко мы зашли в этой жизни! И где выход?!
Я не знаю. Право, не знаю. Но надо жить и исполнять свои обязанности! А как с внуком быть? Ему всего год и восемь месяцев. Что останется ему? Кто будет вокруг? Что сделают с его душой, да и с телом тоже?
Вчера я Вас видел по телевидению в «Театральных встречах», откуда и узнал, что Вы начали работать над шукшинским «Разиным». Я знал Василия Макаровича, он бывал у нас дома, и рад, что самый дорогой ему материал попал в Ваши, а не в какие-то другие руки. Рад, что Пугачёва будет играть Матвеев, манит исторический материал, слово Шукшина, звучное и неистовое, поворотит его на назначенную Богом стезю и уведёт из придворья.
А позавчера я слушал Вас по телевидению в передаче о художнике Попкове. Мы ведь здесь, в провинции, сидим по домам, смотрим телевизор и постепенно покрываемся паутиной обывателя, которую потом трудно с себя обирать...
Ну. извините, что утомил Вас длинным письмом. Спасибо за новогоднее поздравление! За труд Ваш постоянный. Со всеми Вас праздниками: с 50-ле-ием. с Новым годом! Пусть он будет милостив ко всем нам, сушим на земле! А Вася Белов лежит с пневмонией в больнице. Мучает она и меня...
Кланяюсь. Виктор Петрович

Дорогой Иван!
Ну, прежде всего спасибо тебе за то, что ты доверился мне и дал прочитать свой роман. Ничего я честнее, мужественней и та-
лантливей не читал в нашей литературе о нашей горемычной деревне. Даже такие книги, как «Пряслины», «На Иртыше» и «Комиссия» Залыгина всё-таки написаны «деревенскими гостями». Только через себя пропустивши нашу деревню, со всем её говном, святостью, свинством и величием, возможно было написать о ней так глубоко, с таким проникновенным страданием, как это сделал ты. Всё же твоё преимущество в возрасте сказалось — несколько лет работы на земле, истинной, взрослой, заменяют всю память и интуицию, какая, например, дадена мне. Добро ещё, что я не взялся писать о деревне к ряду, а написал лишь то, что выхватила память. Думаю, возраста не хватает и беловским «Канунам» — совершенно схожим с твоею книгой по материалу, времени и героям.
У меня к этой твоей книге хорошее чувство и отношение. После прочтения твоего романа незрелость «Канунов» сделалась совершенно очевидной. Тем подлее на фоне этой и особенно твоей то действо, какое сотворил Шолохов в «Поднятой целине» или Можаев в «Мужиках и бабах» (первая книга). Из такой-то сложности, из горя горького и тревожного времени они состряпали оперетку на деревенскую тему, которую Можаев, к примеру, знает по цэ-дээловскому трёпу и редким наездам к матери на чёрной «Волге» в качестве писателя-гостя. А Шолохов так испугался самого себя после «Тихого Дона», что пустился в разнопляс с самим собою. Он — самая трагичная фигура в нашей завшивленной литературе. Эдак-то и я её знаю, деревню-матушку. Эдак-то и мне народ жалко. Тут жалости мало, тут ум и знания требуются да ешё трезвая голова.
Нашим в «Нашем современнике» я выскажу своё мнение, и особый разговор у меня будет с моим другом, Евгением Ивановичем Носовым. Он подло отнёсся к твоему роману, он с точки зрения функционера рассуждал о книге, которая ранит, не может не ранить всякого порядочного человека, если он истинно русский. Наверное, после этого разговора я потеряю друга, но мне уже не привыкать терять в литературе друзей.
Самая горькая потеря была — Владимир Черненко (Пермь), который блестяще начинал и плачевно кончил свой в литературе путь оттого, что много пил, полюбил быть начальником над писателями и отсюда неизбежно — за-криводушничал. А он так много сделал для меня, особенно в начале моего пути. Но что делать? У меня оставались два пути: или сказать ему всё, что я о нём думаю, и расстаться, или самому начинать пить беспробудно и опускаться до написания рассказиков о сладеньких товарищах-коммунистах, несгибаемых ни в труде, ни в бою.
С тобой разговор у нас будет длинный, поэтому с письмом я закругляюсь. А тебя прошу приехать числу к десятому января. Примерно в это же время из Москвы должны приехать показывать картину по «Перевалу» режиссёр и оператор, а днём позже приедет с концертом наша заочная знакомая Виктория Иванова. И мы послушаем в её исполнении много прекрасных романсов, в г0м числе и мой любимый романс: «Вам не понять моей печали». И иконы посмотришь, город оглядишь. Соберись на несколько дней.
Я не знаю, как складываются твои дела в «Москве». Знаю одно: Алексеев не менее лукав, чем Викулов, и я думаю, согласится печатать роман в пику Викулову. Но при этом потребует такой правки, что ты за голову схватишь-сЯ и откажешься сам. Сам! — понял ты меня?! Так у меня было с «Пастуший». Я сам отказался, и сам виноват остался. Никто меня не ругал, за грудки не брал — всё ласково, ласково...
Так что будь к этому готов. И ешё, как мне кажется, готов будь писать продолжение, вторую книгу, к которой у тебя уже есть блестящее название: ..Ошибись, милуя». Материал твой реализован только наполовину. Ты только взял разгон. Никто уже не напишет так о начале коллективизации, как ты. А в том, что роман будет напечатан со временем, я совершенно не сомневаюсь. С твоего позволения рукопись прочтёт и моя Марья Семёновна.
Будь здоров! И тебя, и близких поздравляю с Новым годом!
Передай привет Вале Сорокину.
Обнимаю, Виктор


Дорогой Валим!
Письмо твоё пришло 9 января, а ты пи« сал его 25 декабря. Вот так писать под нов1 год! Пришло оно одновременно с письмом из Сибири, в котором меня извеч стили, что мой любимый братишка, с которым я выводился когда-то, заболел; раком, уже разрезан, зашит, и дело времени решать его срок жизни.
Днями я лечу в Сибирь, где и бабушка находится также в предсмертном' состоянии. Родни и друзей у меня много, и всех их мне, видно, не перехоро-1 нить. Когда-то от горя и страданий я умру тоже, и, наверное, сделаю это с облегчением. Так что-то устал, так состарился душевно...
Ну ладно, не об этом я хотел написать-то. Рука повела. В Быковке я начерно написап роман. Он выделился из того, что я писать) уже начал. Роман о форсировании Днепра. Действие его происходит на плац-1 дарме в очень короткий срок. Главный герой родом из Шурышкар, должен походить на Серёжку ухватками, а характер несколько иной. Много у меня вопросов к тебе будет, и. наверное, придётся всё равно ехать, хотя осенью надо будет и на Украине побывать, оглядеть местность, где действие романа происходит.
Пока ответь мне на одни вопрос: где находится кладбище в Салехарде и как оно выглядит (осенью или весной)? И ещё спроси у южан, бывает ли коньяк больше пяти звёздочек. В связи с романом читаю продукцию «Воениз-лата» о битве за Днепр. О. боженька ты мой, что там понаписано-то! Я и не представлял себе, каким потоком хлещет ложь о войне, размера этой лжи не представлял. Хорошо хоть то. что книги эти никто не берёт и не читает.
Ну ладно. Вадим, ты уж извини меня, что коротко — уж очень голова болит.
Жене и сыночке поклон. Маня и Ирина кланяются. Обнимаю, твой Виктор

Дорогой Валя!
Очень рад тебя поздравить со вступлением в Союз! Дело это вроде и формальное, да нужное. Отныне уже ты не партизан и диверсант-одиночка идеологического фронта, а организованный член, которого и поприжать можно в случае чего, и пенсией поманить, и вообще утвердить в праве самосознания, что работу работаешь, а не лапти плетёшь, и можешь за эту работу получить пряник или плеть. Пряник дают всегда уже кем-то облизанный...
Наверное, со временем тебе надо перебраться в Москву и устроиться на -,,ужбу, то есть устроиться на службу и с помощью се перебраться в Москву, получив за службу квартиру. Думаю, что критику в таком глухом городе, как Псков, не житьё, зачичеревеешь, усохнешь мозгом.
У меня должно выходить собрание сочинений в четырёх томах в «Моло-(,н гвардии». Сперва намечали первые два тома на 80-й год, но теперь разде-.уУ1И по тому и первый намечают в 79-м году /все тома выиьш в течение ц)У9~1981 гг. — Сост./. Я, когда меня спросили насчёт автора вступительной статьи, назвал тебя. Сделать это тебе не так уж и трудно на основании книжки, а объём статьи где-то в пределах двух листов, значит, и подзаработаешь маленько. Это если издатели не найдут кандидатуру «по своему сердцу».
Читал ли ты мои новые главы из «Последнего поклона» в «Нашем современнике»? Мне очень хочется узнать твоё мнение. Я много сил вложил в них, н из-за них мне пришлось сильно дотягивать первую книгу. Буханцов, критик, уже написал о главах в «Литературной России», но так умно, как будто речь идёт о передовом методе производства больничных костылей, а главное — преподаватель ведь, словесник! Кандидат наук — и читать не умеет, купился на моём «французском» тексте. Плёл я там за покойного дядю всякую романтическую хреновину, подставив к ней доподлинное имя маркизы Де-бель-иль из Дюма-младшего, корректорши эту хреновину закавычили, и ничтоже сумня-шеся критик упрекнул меня за то, что неграмотный этот дядя шпарит этакими изысканными цитатами... Я сразу вспомнил почему-то с ума меня сводившую когда-то деревенскую песню, точнее, «жестокий романс», к которым так склонны до се мои любимые гробовозы: «О боже мой, что делает привычка! О боже мой, что делает любовь!..» В данном случае — любовь к примитивизму.
Нынче, узнав, что я «отдыхаю», навалились на меня с рукописями, книгами, статьями и пр.. и пр., да и посещают народы. Сейчас гостит в Вологде с женою вместе Николай Николаевич Яновский. Он пишет обо мне монографию аж на 12 листов для «Советского писателя». Мне его жаль даже, ведь это же не роман, где тут 12-то листов наскрести. Но он говорит: «Я привычен». Я очень уже давно знаю Николая Николаевича, связывает нас давняя симпатия 11 общении, он — милейший человек, встреча с ним для меня и для души — большая разрядка и удовольствие.
Потихоньку готовлюсь ехать в Казахстан, в Темиртау, с заездом в Орск — Решили мы, четыре фронтовых друга, пока не поздно, собраться и повидаться. Двое из четырёх живут в Темиртау, вот и соберёмся у большинства. Поскольку я очень упорно мечтаю писать о войне и поскольку один из четырёх Меня вытащил с поля боя, а одного из четырёх — я, и нынче весной побывал 11 Польше на том месте, где его ташил-то, бедолагу, то много жду от этой встречи. Всё же самые верные люди в моей жизни — да и в моей ли? — окажись братья-фронтовики, те, с которыми горе мыкали в окопах. Смог "спомнить, что с тем. которого мне предстояло вытащить на горбу в Польше, Мы при первом знакомстве подрались и, конечно, будучи более тренированным в детдомовских драках, я ему навтыкал. И вот через много-много лет '"•'помнил я ту драку и коснулся знакомого образа в главе «Соевые конфеты», "Ричём произошло это подсознательно. О Ване, моём друге, что живёт в Ор

Дорогой Вася!
Нет, не получается на этом пути. Поездом.' мы сначала из Москвы на Орск, там соединимся с другом и покатим дальше (если уцелеем до этого). Прямо какое-то бедствие.., Народ одолел. Всякий. Марья Семёновна устала смертельно. Внучек заболел.
Недавно был приём в Союз, приняли и Марью Семёновну, после выпили, и один, вновь принятый, поехал домой в деревню и замёрз в снегу. Всё как-то нелепо, нервно, дёргано! Я так уже и за стол, заваленный почтою, не могу присесть — некогда!
Если дочь соизволит явиться с Урала вовремя, то мы числа 14—15-го выедем и где-то числа 25-го двинем обратно, тогда уж северной дорогой, может, и заедем в Курган, а оттуда к тебе. Ты уж извести об этом Витю Потанина, мне писать некогда. Да не ссорься с ним! Понял?!
Кино тут днями наше привозили. Замечательная получилась картина, и песня наконец-то о Сибири настоящая написана. Ну, всё расскажу при встрече, а может, и плёнку с песней прихвачу. Когда поедем обратно, я дам теле грамму. Вите или Ване обязательно позвони. Обнимаю, Виктор Петрович

ске, и о том, как мы с ним дрались — а был он младший сержант! — я вспомнил уже после того как главы были напечатаны... Дети всё же были мы. По восемнадцать лет. Подумать и то жутко, что это такое — восемнадцать-то лет?!
Ну, поклоны твоим большим и малым! Обнимаю, ешё раз поздравляю; Виктор Астафьев
Р. 8. А кинокартину везде приняли на «уру» и дали ей 1-ю категорию. Видно, всё, что делается без претензий на великое, и получается ладом...
Дорогой Евгений Васильевич! Приветствую Вас, Елену, маму Вашу и ре бят, шлю всем самые наилучшие пожелания,
прежде всего женщинам, и поздравляю их с праздником и началом весны!
Евгений Васильевич, вот чего я беспокою Вас. Не живётся мне спокойно, и всё тянет меня написать чего-нибудь сердитое, и вот написал я начерно роман о форсировании Днепра. Роман небольшой, тургеневского размера но тем не менее очень сложный, и долго мне ещё предстоит с ним возиться, и хотелось бы, чтоб он был точней в изображении частностей войны, особенно переправы. Выберите, пожалуйста, время и напишите мне поподробней с наших гаубицах. Почему они «шнейдеровками» называются? Каков эффект их стрельбы? Как готовились к переправе? Как вели бой с другого берега; Делалась ли какая-то разведка и пристрелка заблаговременно? Подробней и как можно больше напишите терминов, которыми пользуются при ведении и подготовке огня с закрытых позиций и на прямой наводке. Какие чувства переживали Вы, когда находились на плацдарме, особенно к тем, кто остался не левом берегу, попивая водчонку, щупая баб и требуя от Вас «активных действий», сводок и донесений?
Словом, всё, что припомните о плацдарме, напишите. Я пишу роман не а пашей дивизии, и люди, и действия в романе обобщены, собирательны, но цре-чем из того, что застряло в памяти, естественно, воспользуюсь.
Перечитал я кучу литературы, мемуарной и документальной о битве за Днепр. Боже мой! Я и не предполагал, что можно так и столько наврать, исказить всё! Значит, есть причины не говорить правду, а причина-то, в общем, одна: наши колоссальные потери на Днепре, безалаберность и неподготовленность при захвате плацдармов и неспособность полководцев, таких в том числе, как Ватутин, вести операции крупного масштаба и полное пренебрежение к человеку — солдатами сорили, как песком. Да и сейчас полководцы, увешанные орденами, всё делают, чтобы доказать, как они блистательно воевали и чуть ли не с каждым солдатом целовались — такие они добрые отцы! Никто никого не застреливал, не расстреливал, заградотрядов, штрафных рот в помине не было, а уж храбры, храбры были, особенно политручки! Прямо врага так и ломили молодецкой грудью!..
Обнимаю Вас. Виктор
ня а тут и делишки, конечно. Каждый день мою голову чем-нибудь забивают, в основном — чепухой. Но сейчас занимаюсь делом, читаю вёрстку «Поклона» п как вычитаю, наверное, улечу в Красноярск, заниматься домом.
Вырешили мне путёвки в Ялту, лечить лёгкие. Хлопоты были большие. С какого числа путёвки, я ещё не знаю, хочу до них побывать в Сибири.
Марья Семёновна туристом укатила в Югославию — Болгарию, 17-го уже вернется, Дед пьёт водку и буянит. Зять пьёт водку и где-то ночует. Я бы иной раз взял ружьё и перебил бы их всех или нажал собачку собственной ногой. Моя благостная семейка хуже всяких неблагостных. В ней, как в современном Сортире, все газы и говно по трубам идут, а в конце трубы — я, должен всё ло говно или схлебать, или сделать вид, что на меня льётся божья роса.
Марья Семёновна всегда, а в последние годы в особенности, утешает меня скорее всего видимостью забот и хлопот, лишая при этом главного — свободы мысли и действий. Всё время думаешь — как бы не обидеть ненароком, не так оы чего не сделать — человек-то она больной, хороший, а я... и т. д., и т. п.
Снаружи, Вася, всё хорошо, а внутри, «под крышкой», ох сколько всего! "а износ живу. Надеюсь на переезд в Сибирь, как на некое христово осия-и,е, а Марья Семёновна тихо и упорно сопротивляется этому. Она уже много •''ет всё, что не по ней и для неё неполезно, воспринимает в штыки, всегда 'Мчотин меня, и чем-то у нас дело кончится — не знаю. Она забыла, что если Я взорвусь — будет худо. А снаружи. Вася, это образцовая жена. Избави бог сех нас. лапотных мужиков, от образцовых.
•Ладно, Вася, сам видишь, сорвало меня, вот и поплакался в жилетку.
Ещё раз спасибо! Книгу, кому там надо, пошлю позднее или привезу ког-Ла-Нибудь. Обнимаю, целую. Виктор Петрович
Йасенъка!
Всё я получил, и альбом, и письма, и газеты — спасибо. Но пришла весна, а с нею и какие-то недомогания, лёгкие-то мучают ме-

Дорогой Вадим!
Перед самым отьездом в Крым получил я, Вадим, твоё большое и, как всегда, доброе письмо. Рад. что дебют в театре состоялся. Дай Бог не последний. Рад, что дела более или менее идут, и ты не сорвался пока с места — всему свой час. Обживётесь, оглядитесь, оперитесь, и может, чего и в России подвернётся. Прибалтика ведь, особенно Эстония, поражена национализмом, и из азиатского, да в полунемецкий национализм?! Хотя русские прусских всегда бивали, но прусские никогда сего не забывали...
Моя сраная пневмония загнала меня в институт Сеченова, в Ялту, куДв путёвки бесплатны и даже больничный выдают, а уж коли бесплатно...
Вадим! Такое убожество, грязь, равнодушие к людям, наплевательство к их жалобам и болям я видел только во время войны в госпиталях. На хрена меня, дурака, заносит в такую вот богадельню?! Ведь трое в комнате, в сортир

Дорогой Валентин!
Я тут на полмесяца выскакивал в Сибирь, встретить весну и повидаться с родными. Там, в родной деревне, и Пасху встретил, и I Мая. В Пасху ночью стреляли по старому обычаю,
пальнул и я два раза. Деревня отводками, гнездышками еше живая, судя по разрозненным выстрелам. А вообше ни с чем не сравнимое это диво — ночь весенняя, звёздная, шум вод в горах, тень лесов, и вдруг пальба, какая-то не боевая, пусть в удаль, озорство ли. а тревоги никакой. Я и разговляться не велел меня поднимать. Пришёл, упал на кровать и уснул крепко-крепко, успокоенный и мирный.
Да. зимою мы с Марьей Семёновной съездили к фронтовым братьям. Большое дело сделали. Поездка получилась, иначе и не скажешь, святая и к СВЯТЫМ- Когда-нибудь расскажу, а писать? Разве напишешь?
Бес думаю о военной книге. Намечается большая, вроде трилогии, есть какой-то уже план в голове, вертятся и люди, некоторые с лицом даже. Делаю «затеей», пишу потихоньку пьесу [речь идёт о пьесе «Прости меня», впервые поставленной в Вологодском драматическом театре. — Сост.] и подбираю книгу публикаций, всё дела, дела, без них как же?
Внук растёт и радует деда с бабкой. Не знаю, как месяц и выдержу без него в Крыму. Я и за один-то день успеваю о нём соскучиться.
В Сибле ещё не был. Ездила туда Марья Семёновна, прибралась, выспалась. Летом и я туда заберусь. С середины июня. Может, подъедешь? Видел твои миниатюры в «России», но не читал ешё. Бегаю, кручусь. У нас ещё завтра отчетно-выборное собрание, так и присесть некогда.
Поклонись жене, поцелуй сына. Если что забыл отписать, извини. Весь раздёрган. Обнимаю тебя, желаю хорошей работы. Виктор Петрович
Да! Прочёл твою статью в «Литературном обозрении», хотел сразу же написать, но отвело и теперь уже не собраться. Статья очень оригинальная, но это всё-таки лишь начало каких-то твоих больших рассуждений о литературе...
,:1 юко, в комнате холодно и сыро, а лечение... климатом! Так ведь рядом дом гворчества, и в нём условия независимые и удобства почти барские. Уже теперь, на третий день лечения, мечтаю скорее вернуться домой и в деревню, в глушь, в леса.
Пасху и первомайские праздники был на родине, в Овсянке. Хорошо было. Наверное, куплю я там домишко, оборудую ею и стану там писать книгу о войне, надумывается трилогия — запасной полк, фронт, после фронта. Страшно и думать, какая работа, сколько сил и бумаги потребуется! Но всё уже вертится в голове и сердце, и мне уже не отвертеться от этой работы...
Пока делаю мелочи, некоторые «затеей» пойдут в «Новом мире», где-то в последних номерах, и ещё статья в журнале «Театр», тоже в конце года (это я гебе как «театралу» сообщаю).
Писал ли я тебе, что первый том собрания сочинений сдаётся в производство и. очевидно, нынче будет подписка; на выходе «Последний поклон», выйдет — пришлю. Витёк маленький растёт, хулиганит, радуется жизни. А я обнимаю и целую тебя. Твой Виктор Петрович
.
 Дорогие Люся, Витя, Катенька, Анна Тимофеевна!
Дорогие Люся, Витя, Катенька, Анна Тимофеевна!
Сидим мы тоже в деревушке Сибле залиты по уши водою — четвёртый год у нас все лето льёт дождь, а нынче так и всю Европу залило. Я был в Крыму в доме творчества, хотел подсушиться, да куда там, лило, как и здесь, было холодно, спал под двумя одеялами.
Вот уже месяц мы в деревне. За месяц было семь более ли менее погожих п 1си. три дня даже с солнцем, и сейчас вот второй день живём без дождя, а в Москве и того нет, там шпарит бесперерывно. У нас зелени уже нет — трапа, а под нею вода, и не трава, а травища. В лесу не продохнуть, хмарь безголосье, бурьян, до сих пор цветёт брусничник. Вот такое бедствие никому и не виделось, в огороде в земле сгнила картошка, ничего не растёт...
Я и сам эти дни ничего не мог делать, даже читать, а потом уж совсем в пессимизм ударился и давай себя за волосы вытаскивать из трясины душевною мрака, заставил себя потихоньку читать, трудиться, и... разошёлся, наверно заканчиваю драму, которую давно придумал, а всё не мог за неё засесть. Я всё думаю над трилогией о войне, она у меня уже обрисовалась, в обшем-К), и на будущий год, жив буду, приступлю к этой невероятно трудной рабо-и хватит мне её, наверное, до конца дней моих. До этого хотелось бы расширить дорогу — написать об А. Н. Макарове, собрать в кучу «затеей», сдать 11 «Современник» книгу публицистики, подготовить второй том собрания сочинений, да и кино-театральные дела сбагрить. На «Ленфильме» идёт полным Кодом подготовка к постановке фильма «Таёжная повесть» по главе из «Рыбы» «Сон о белых горах». На «Мосфильме» Булат Мансуров начинает подго-"вку к двухсерийному телефильму по «Пастуху и пастушке» — этот сценарий и буду делать сам, это передоверять нельзя, такую секс-историю сочинят, что и вовсе от телевизора отставников и вековух не оторвать будет

Дорогие товарищи! Спасибо вам за письмо и анкету, присланную в связи с приближающимся юбилеем Льва Николаевича Толстого. Но вопросы анкеты заранее обрекают отвечающего на разговор «умственный», сухой и казённый, а для меня имя Толстого свято в прямом значении этого слова, и любая фамильярность или казённость по отношению к нему меня коробят.
Кроме того, я думаю, много желающих найдётся и без меня ответить на ваши вопросы, поэтому напишу вам чуть-чуть «от себя», а Вы уж как сочтёте возможным, так и поступите с этой писаниной, исполненной не по форме.
Первым в жизни художественным произведением, узнанным мной, был рассказ Льва Николаевича «Кавказский пленник». Его прочитал нам, ешё не
Я и не написал вам сразу из-за мрачности духа, но теперь, когда «подладился», хочу поблагодарить вас и за память, и за доброту, и за заботу — рубаха мне по душе, и я сразу же напялил её на себя. Маня от духов в восторге, а Витенька с книжкой до того таскался, что и лишку оттуда выдрал.
Сегодня мы с ним ходили к речке, он бросал камни в одуревшую от воды речку, а я рвал цветы и нашёл ему три первых целых земляничины. Потом он попросил поймать ему бабочку, поймали, повредили, мальчик пожалел её и велел отпустить. Потом мы видели чайку, и малыш сказал: «тяйка», потом мы пропустили много «би-би», потом на лугу мы видели лошадку, которая делала «ам-ам». и домой в гору малыш шлёпал сам и пытался рассказать о таких огромных впечатлениях, об открывающихся в мире чудесах. Если даже и таким мир сохранится, в нём ещё достаточно удивления и уважения, но едва ли...
Вчера я сидел на рыбалке на реке Кубене, и до слуха моего донёсся непривычный приятный звук с полей из-за реки, и много прошло времени, прежде чем я узнал пастуший рожок. Сделал отец — инвалид войны, пастух и дал сыну, а тот уже и пропел далёкую, как сказка, песню рожком, порадовал заброшенную людьми землю, пустые деревушки, захлёстнутые бурьяном. Слушал я рожок, и по воде плыли, кружась, белые пятна и что-то похожее на размытый творог — это с полей дождевыми потоками сносило удобрения. Четвёртый год льёт, четвёртый год ни грамма урожая, но под «мудрым» руководством олухи царя небесного, которым наплевать на землю, реки, даже на себя, тупо валят и валят химию на родные поля, а тем временем в Кремле думают, где бы ешё купить или урвать хлеба, картошек или хоть сена клок.
Мы с Марьей Семёновной едем в Улан-Удэ на Неделю литературы, надо встряхнуться. 19-го выбираемся отсюда, 22-го уже будем в Москве. Ты не едешь ли, Витя? Охота уж и повидаться, часто с М. С. мы вспоминаем нашу поездку зимнюю и вас, таких родных нам людей. Хорошо, что вы есть и о вас иногда можно вспоминать и думать.
Будьте здоровы, добры, и пусть солнце светит над вами самое доброе. Ваш Виктор Петрович.
умсюшим читать деревенским детям, только что прибывший в деревню, учитель- С тех пор рассказ о Жилине и Костыли не, а также рассказ Горького «Дед дрхип и Лёнька», услышанный следом за «Кавказским пленником», я не перечитывал, и мне удалось сохранить чувство великого чуда в сердце, которое сотворил наш молодой и славный учитель на наших глазах, ибо лишь позднее я пойму, что чудо это раньше него сотворил писатель — Толстой.
Много-много лет спустя, вместе с тульским писателем Александром Гавриком я поехал в Ясную Поляну и был потрясён равнодушием и праздностью толпы, жидкими потоками плавающей по аллеям, дорогам и тропинкам усадьбы. Люди чего-то жевали, фотографировались на память, хохотали, припоминая какие-то сплетни о Толстом, а главным образом, о жене его и детях. Какая-то простодушная пожилая женщина сказала, стоя возле могилы Толстого: «Господи! Господи! Такой, говорят, большой был человек, а могила сиротская, без креста. Денег, что ли, жалко?» Какой-то седовласый гражданин в рубахе-распашонке с лицом закалённого кухонного бойца кричал в кафе усадьбы: «Почему это водка есть, а коньяку нету? Я хочу благородного человека помянуть благородным напитком!..» Рядом сидела его внучка или дочка отроческого возраста, потупив глаза, с лицом потерянным и несчастным. Саша Гаврик, не выдержав, сказав «бойцу»: «Гражданин, опомнитесь! Вы где находитесь-то?»
И «боец» тотчас же с радостью напал на Сашу. И мы покидали усадьбу под мерзкий, ржавый, уже сорванный голос кухонного воина, под звук движка, который нудно звучал возле дома, на аллейке, как нам пояснили, улавливая количество газов, сажи и дыма, опадающих на усадьбу, ибо хвойные деревья здесь почти уже все погибли, так чтоб не посохли оставшиеся...
Так бы я, наверное, и уехал домой с тяжёлой растерянностью в душе, если бы Саша Гаврик, много уже бывавший в Ясной Поляне, не посоветовал мне наведаться сюда в выходной день.
Стоял сентябрь, золотая пора России. На усадьбе ещё редко, неохотно Опадал лист. Было чисто и светло, а главное, безлюдно. Я весь день проходил по усадьбе один, и весь день у меня было ощущение, что в спину мне острыми, тяжёлыми пулями бьёт взгляд, пронзая меня насквозь и высвечивая во мне всё, что было и есть, и я невольно подбирался, припоминая всё, чего сделал в жизни недостойного и хорошего. Весь день был я как бы подсудимым, вееь день подводил баланец своей жизни. Это был трудный день в жизни моей, ибо трудно судить себя взглядом и совестью великого художника и умни-ИИ. Не всякому под силу выдержать этакий суд.
Поздней я высказал пожелание, чтобы каждого вступающего на писательскую стезю, прежде чем принять в Союз и оформить, как писателя, привози-Ли бы в Ясную Поляну, давали возможность побыть «с Толстым наедине» и '0о.м уж опрашивали, готов ли он заниматься тем делом, каким занимался 1сн Николаевич.
Уже в сумерках я пришёл к могиле Толстого, постоял над ней, потом до-РРнулся до холодной, очерствело-осенней травы ладонью и вышел на доро-У. В Тулу я шёл пешком, ещё и ещё переживая ощущения того строгого по-Коя, коим наполнены были леса, перелески и рощи усадьбы, той раздумчивой "ееиней тишины, какая осенями была здесь и при Льве Николаевиче и вот
продолжилась во времени, коснулась моей души. И мне тоже сделалось спокойней, суета как бы отхлынула от меня и, казалось, не закрутит уже. не завертит более, и чувство печальное, чувство зрелого возраста вселилось в меня тогда, и думалось мне. что я способен и буду делать добро, только добро...
Больше я не бывал в Ясной Поляне и боюсь туда поехать, боюсь встретить жуюших, хохочущих и снимающихся на карточки праздных людей, коим всё равно, где бывать, в какой книге отзывов ставить автограф, чему дивоваться, что слышать, лишь бы полезно убить время. И ешё боюсь я, очень боюсь не выдержать сурового суда мыслителя, творца, величайшего из людей, рождённых на земле за много тысяч лет. с которым дано и мне было счастье родиться в одной стране — России. И живёт во мне вечное сознание любви и страха: я занимаюсь той же работой, которой занимался он\ Так какая же должна быть огромная ответственность во мне и во всех нас, ныне живущих, за землю, которую он пахал, за работу, которую он так свято, мудро и мученически выполнял?!
Виктор Астафьев

Дорогой Вася!
Дошло всё хорошо. Вчера, 12 ноября, Маня принесла посылку. Но впредь, кому бы и чего ты ни посылал, ничего не завёртывай в полиэтилен, да ешё так плотно. Всё должно
«дышать», таков, видимо, закон жизни на земле, и развитие ее, даже культура и политика, подвержены этому закону, иначе плесневеют, портятся.
Но уже осень, холодно и всё дошло хорошо. Я уже начал пить сало. Противно, конечно, да что же делать-то? Приходится и куда более противные веши делать. Кастрировать рукописи, например. Я всякий раз, когда делаю это чувствую себя такой проблядью, что сам себе противен.
Вот и сейчас в роли пробляди действую — выхолащиваю рукопись воспоминаний об А. Н. Макарове [рукопись повести «Зрячий посох». — Сост.] ради его памяти и писем, от которых, надеюсь, толку будет больше, чем от самих воспоминаний, и поэтому весь трезвон с присуждением премии прошёл над головой и как будто меня не коснулся, хотя было нервно. И ты прости Марью Семёновну, что она меня не разбудила, когда я уснул. Было тяжёлое давление, погода на улице всё ещё худа, я принял какое-то снотворное зелье и перестал подходить к телефону. Поспал — легче стало. Пробовал даже работать, не очень-то получилось, но к концу месяца надо бы сдать книгу публицистики, развязаться и осмотреться! Вычитываю вёрстку первого тома собрания сочинений. Работа тоже муторная, многое, особенно из первого тома, уж читать не хочется, противно, а надо!
Купил я домик в Сибири на 28 метров (пустили слух — дворец!), его ценность самая большая в том, что он в родном переулке, напротив бабушкиного дома, где прошло моё короткое детство.
Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 253; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |